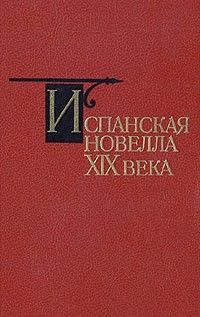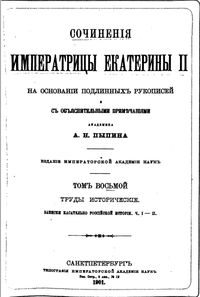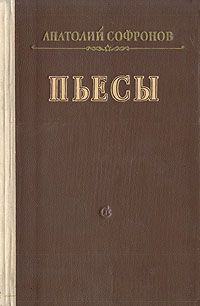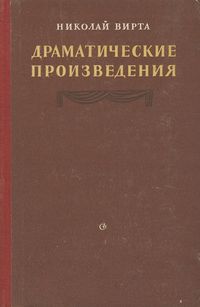Борис Асафьев «Глинка» (1947)
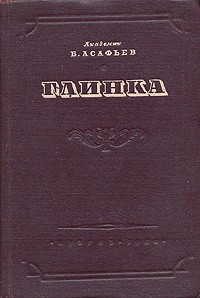
Чтобы твоё творчество оказалось востребованным у потомков, нужно смотреть наперёд. Например, Михаил Глинка решил внести в музыку русские мотивы. Но как это сделать? Учитывая, что в России не было почти никакой музыки, кроме приносимой из Европы. Борис Асафьев на этом особенно настаивал, утверждая: не было русской музыки до Глинки, да и после него к таковой интереса проявлять не стали. Как вывод — Глинка стался забытым. Так ли это? Асафьев не из простых побуждений брался описывать жизнь и творчество Михаила. Во-первых, он посчитал недопустимым отсутствие интереса к данному композитору. Особенно к такому, который в музыкальных произведениях отказывался воссоздавать быт дворянской среды, скорее тяготея к отражению жизни простого народа. Уже на основании этого, поскольку другое не приходит в голову, Асафьев возвышал творчество Глинки.
Является интересным и следующий момент — лучше писать о родной стране получается вне её. Почему-то Глинка не мог в России сочинять, остро испытывая необходимость уехать за пределы государства. Ему оказывалось проще творить во Франции и Испании, нежели в окружении так потребного ему народа. Хотя, не нужно этого исключать, советский музыкальный критик желал видеть в помыслах композитора свои собственные устремления. Так и должно всегда происходить, ведь человек склонен думать, будто всем вокруг должен быть свойственным именно его образ жизни. Ежели так, тогда вновь соглашаемся с наблюдениями Асафьева, находя точно такие же противоречия. Да, Глинка писал о народе, но сам народ не служил для него вдохновением. И ставил ли Глинка перед собою определённую цель? Всё-таки, согласно оставленных им писем и воспоминаний, Михаил критически относился к окружающему пространству, позволяя критиковать прочих деятелей от музыкального искусства.
У Асафьева не получилось с толком рассказать о жизни Глинки. Скорее Борис делился сетованиями Михаила на жизнь. Собственно, какое творчество оставил потомкам композитор? Две оперы, некоторые разнородные сочинения, ворох романсов и песен. Наследие получилось небогатым, поэтому Асафьев значительную часть повествования посвятил разбору работ. Для стороннего от музыки человека суждения Бориса ничего не будут значить. Вполне понятно, с увлечением можно рассказывать о чём угодно, всячески расхваливая и восторгаясь талантом, каковое мнение другие не станут поддерживать. Единственное точное определение творчества Глинки — стремление обособления от польского культурного влияния. Впрочем, добрая часть Польши в годы жизни Глинки являлась частью Российской Империи, к чему можно подойти под разным углом зрения. Асафьев предложил считать старания Михаила за создание преграды для полонизации русской музыки.
В заключении Борис сообщал о наблюдениях, вынесенных из рассуждений Глинки. Снова он говорил, насколько творчество композитора не интересовало современников, и поныне ситуация не изменилась. Но раз Глинка с уважением относился к простому народу, ситуацию с пониманием его музыкальных способностей нужно рассмотреть с более пристальным вниманием. Тем более, Глинка готов был воспевать не столько сам народ, сколько выводить на роль главных персонажей хоть тех же крестьян. Во многом, и это так, наблюдения делались по опере об Иване Сусанине. Однако, фигура Сусанина не всегда воспринималась однозначно, особенно в первые годы существования советского государства, когда низводилось всё, самую малость способствовавшее сохранению царской власти. Будем считать, переосмысление значения подвига времён Смутного времени способствовало и новому восприятию творчества Глинки.
Как не старайся творить во имя интереса потомков, надо понимать, схлынет и то поколение, кому ты покажешься интересен. Кажется очевидным, следует творить, тогда как трактовать тебя всё равно будут согласно повестке текущего дня.
Автор: Константин Трунин