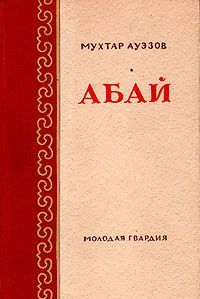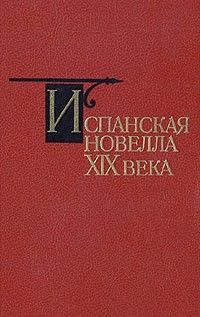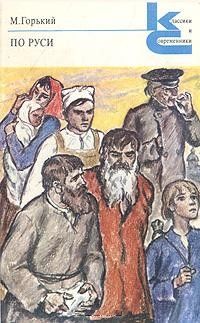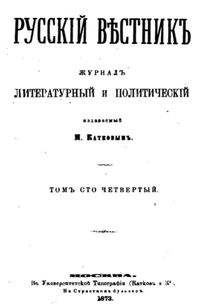Иван Тургенев «Ермолай и мельничиха» (1847)
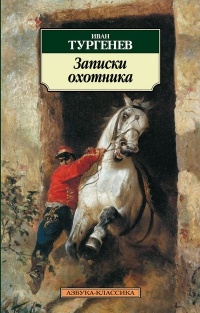
Рассказ из цикла «Записки охотника»
Во втором рассказе цикла «Записки охотника» — такое же описание нравов отдельно взятых людей, встречающихся повсеместно, которых можно понимать в совокупности. Наиболее характерным действующим лицом повествования становится Ермолай — своеобразного образа мысли крепостной. Этот человек жил по принципам, которые далеки от нравственности, но негативно на его восприятии это не сказывается. Просто Ермолай жил так, чтобы не мешать остальным. Можно сказать, от его присутствия или отсутствия ничего не изменится. Однако, учитывая интерес Ермолая к охоте, пользу он всё-таки приносил, особенно Тургеневу, любившему проводить с ним время. Бывало вдвоём они шли по полям и лесам, делились радостями и горестями, пропитанием, спали в самых отвратительных условиях. Собственно, на этот раз им предстояло остановиться на постой на мельнице, куда их запускать долгое время отказывались.
Так кем был Ермолай? Неужели совсем никаких обязательств не имел? Для него, что собака, что жена, как и всё прочее — должное присутствовать само по себе, не затрагивая его собственных интересов. Собаку Ермолай не кормил, та сама о себе заботилась. Может и жену он не кормил, считая допустимым, если та сама сумеет позаботиться о дне насущном. Да и дома Ермолай не любил появляться, предпочитая находиться на вольных хлебах, либо Тургенев не решился о чём-то рассказывать. Сам дом уподобился развалинам, Ермолай никак не стремился к поддержанию строения в нормальном состоянии. Когда жена смела обращать внимание на свои нужды, удостаивалась брани и побоев. Читатель понимал, к быту Ермолай не приспособлен. Вполне даже можно допустить, всё у него валилось из рук. Он проявлял стремление только к охоте, на прочее не обращая внимания. И только поэтому Тургенев его всячески примечал, находя удовольствие быть с ним в компании.
В рассказе есть ещё одно действующее лицо — мельничиха Арина. Она заботится о гостях, невзирая на запрет мужа. Тот имел неудачный опыт общения: в прошлом году ему чуть не спалили мельницу, причём такие же, с виду нормальные, охотники. И кем была Арина? Как и все крепостные женского пола — несчастное земное существо, принужденное терпеть барскую волю, не проявляя стремления к праву на выражение личных чувств. Она порядка десяти лет прислуживала горничной в столичном графском доме, пока не стала упрашивать барыню дать дозволение на женитьбу. Тут же Тургенев сообщал о правиле графини, считавшей, что её горничным не полагается быть замужними. Когда же Арина забеременела от лакея, её сослали в деревню, где она поныне и живёт.
Как поступить с мельничихой? Тургенев, под видом рассказчика, лишь принимал её заботу, тогда как Ермолай не прочь был перевести ухаживания в более интимную форму, о чём, без какого-либо стеснения, намекал, приглашая домой, откуда спровадит жену. Читатель может увидеть безнравственность в таком моменте содержания, подобно цензору, указавшему на недопустимость такого в сюжете. Но как-либо поступать с мельничихой не требовалось, путникам нужно было лишь провести ночь на мельнице, после чего они продолжат охоту.
Читатель может воспринимать рассказ в разном качестве. Предлагается опустить детали повествования, какими бы они не были. Тургенев описывал действительность, какой она ему предстала. Важно другое, у писателя должно сформироваться умение создавать портреты действующих лиц, похожих на настоящих. Для тренировки такого навыка подойдут настоящие люди, с которыми сводила судьба. Делать это нужно умело не только в отношении хорошо знакомых, вроде Ермолая, но и тех, с кем довелось видеться всего один раз в жизни.
Автор: Константин Трунин