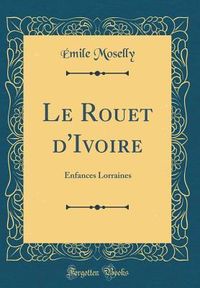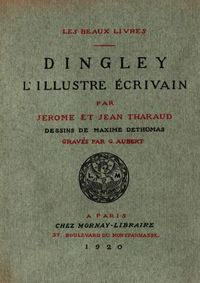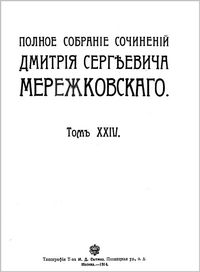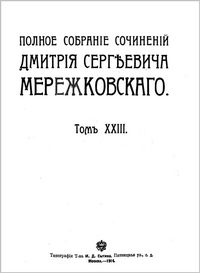Николай Полевой «История Петра Великого. Второй рассказ» (1842)
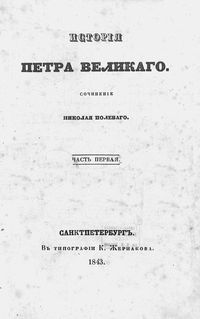
Софья не была регентом, она именно правила. Об этом Полевой повёл речь во втором рассказе. И не было в мыслях у Софьи, будто она уступит это право другому. Будь такие мысли в голове, она смогла бы найти управу на Петра, поскольку с ним можно было легко справиться, учитывая юный возраст. Железный характер позволял Софье добиваться любой поставленной цели. Сумев сладить со стрелецким бунтом, она подавляла всех, кто смел противиться её воле. Например, недолго прожил после бунта Хованский, по чьему имени бунт и носит прозвание Хованщины. Хованского умертвили через усекновение головы. Сами стрельцы роптали перед Софьей, согласные отказаться от требований, более не буйствовавшие и пришедшие к смирению.
Во всём Софье следовал успех, особенно в действиях против Польши. Удачно складывались дела и на востоке, в пограничных спорах с Китаем право сильного оставалось за Россией. Единственного не получалось осуществить — не удавалось овладеть Крымом. Сам Полевой склонен считать в том виновным непосредственного руководителя на месте, на плечи которого возлагалась обязанность вести боевые действия, — Василия Голицына. Не имелось даже переменных успехов, так как любая компания под руководством Голицына омрачалась многочисленными потерями. Именно по этой причине к 1789 году Пётр выйдет из терпения, более не согласный терпеть бахвальство человека, не способного добиться самого малого результата. На фоне неудач Голицына возросла ещё одна важная историческая фигура — Иван Мазепа.
Точно неизвестно, кем Мазепа являлся. Существует версия о польском происхождении. Но точно можно говорить про его мировоззрение, Мазепа во всём старался находить выгоду, не брезгуя предательством. Так первым пришлось пасть гетману Самойловичу, несмотря на расположенность к России. Мазепа обустроил всё таким образом, вследствие чего Самойлович оказался в опале. Сам Мазепа стал гетманом, воспользовавшись соизволением Софьи. Примечательно, что в 1789 году он предаст Софью, признав право Петра на власть, как ещё позже предаст Петра, видя в Карле XII возможность сохранить положение.
До второго рассказа Пётр продолжал оставаться в стороне от истории о нём. Полевой не находил слов, чтобы сконцентрироваться на главной фигуре повествования. Но может причина в важности происходивших событий, тогда как сам Пётр занимался не настолько интересными делами. Пусть он имел примечательное действие, воевал с помощью потешных полков, но и только. Не станет ведь Полевой повествовать про особенности проведённых компаний, толком и не зная, как именно складывались дела. Информация вроде такой, будто Пётр попробовал силы на всех позициях, в том числе успел побывать барабанщиком, имеет сомнительное значение. Всё-таки Пётр ещё не раз обожжётся, не умея толком воевать, вследствие чего война со Швецией затянется на несколько десятилетий.
Что до Софьи, она поздно поняла, какую опасность представляет Пётр. Где-то ею был упущен момент, после которого нельзя восстановить утраченные позиции. Успешная игра во внешнюю политику, уверенность в собственной силе, сыграли решающее значение, когда Пётр решил заявить о праве на царство, должное ему быть предоставленным. Полевому оставалось рассказать о заговоре, который могла замыслить Софья, либо обстоятельства складывались против неё, а может то явилось в результате действий Петра. Выходило так, словно Софья собиралась низвести брата, окончательно разобраться в вопросе, кому предстоит продолжать царствовать. Разумеется, заговор будет вовремя раскрыт. Однако, Софья не успокоится, в неподходящий момент интриги вновь пойдут в ход, когда возникнет необходимость побудить стрельцов на второй бунт.
Автор: Константин Трунин