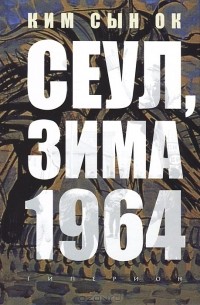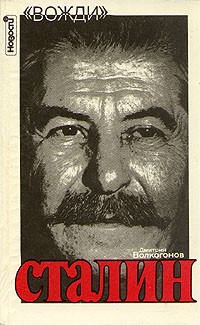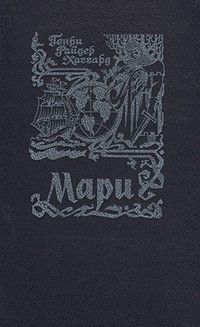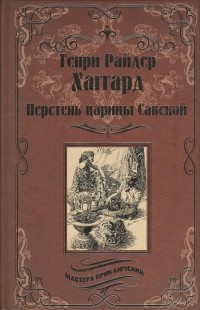Николай Карамзин – Стихотворения 1796
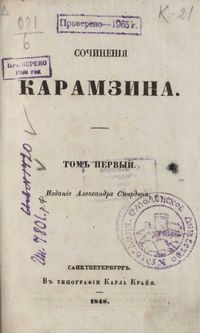
Входящий в общество людское, способный талантами блеснуть, писал Карамзин стихотворение любое, если просили хотя бы о чём-нибудь. Так 1796 год — обильный на краткое обозрение бытия, ежели просил народ, не жалел Николай строчками делиться никогда. Отдельно «Опытная Соломонова мудрость» стоит, написанная для пользы собственных разумений, не таким подходом к творчеству Карамзин, увы, знаменит, не потому он для россиян тогдашней поры гений. Всё прочее — вокруг любви, ибо любовь — движет поступками человека, требовалось отразить чувства чужие и свои — русского человека и даже древнего грека.
«Надежда» дарит утомление читательским глазам. Желается полёт, а видится тяжесть притяжения. Не устал ли Карамзин в подобном духе писать сам? Копируют друг друга его стихотворения. Нет, не лжив Николай, как бы иное не говорил, в стихе «К бедному поэту» об ином поведано было, не тот поэт, кто правду в строчках сообщил, а тот — кому приукрасить удаётся лживо. Лучше говорить о материях далёких времён, вроде примера в стихе «Отставка» сообщённого, оттого поэт и не бывает удручён, античного жителя показывая на душевные терзания обречённого. А когда пора говорить о веке современном, тогда «Прощание» вполне подойдёт, все мы пребываем в состоянии временном, чему покойник лишь объяснение найдёт.
О любви «Лилея» — Лизу с лилией сравнил. О спорщике «Никодим» — ну и чёрт с ним. И сразу «Любовь ко врагам», там себя осудил, решил быть перед читателем собою самим. Ему двадцать лет, едва ноги таскает, похож на скелет: от этого страдает. Смотрит в очки, носит парик, любовь иссушила тело, он — одно слово — старик, осуждающий себя за дело. Тут же «К неверной» писал, готовый умереть, от страданий устал, не может упадка сил преодолеть. И сразу «К верной» в словесах рассыпался любезный. Ох, и ветрен юный Карамзин. Истинно лживый поэт — для общества полезный. Чувствам над своими лишь он — господин.
Познавший мудрость Соломонову, испытавший от осознание оного удовольствия, направил Николай корабль жизни в «Долину Иосафатову, или Долину спокойствия». Там всегда тишина и покой, там от любви отдохновенье, там нет злобы, дружелюбен волка вой, кругом блаженство — такого о лучшей доли представленье. Минута размышлений, и брошено всё в пекло страсти, «Триолет Лизете» — из о любви стихотворений, «К Лиле» — и тут любовные напасти.
Задор юнца, чем не пример? Всякую девушку можно назвать среди всех первою, так есть в «Im-promtu графине Р*, которой в одной святошной игре досталось быть королевою». Кроме задора — ничего, почти тишина, благо складывать строчки Николаю легко, лились потоком из него слова. Он мог «К лесочку Полины» обратиться, обратившись не к нему, а к хозяйке его. Прелестями Полины он смог насладиться, наслаждаясь её лесом, будто и не сказал про неё ничего. В тему сложил объясняющее стихотворение, ибо не желает любить, но слаб человек, о том «Клятва и преступление», любить обречён, отпущенный для того ему краткий век.
Когда особо муза посещала, бумаги не было при нём, «Надписи на статую Купидона» — пусть места мало — наносил Николай острым пером. Объяснение дать? Карамзин сам даёт: «Дурной вкус» для того надо читать, о Никандре, что в себя только влюблён. Отчаянья нет, мы живём по кем-то написанному сюжету, стих «Два сравнения» сложен для понимания, плачем и смеёмся, радуемся — может быть — лету, либо жизнь наша — наоборот — это сказочные предания. «Вопросы и ответы» — не требующие вопросов и ответов, не нужно равнодушным быть, да мечутся души в сомнении поэтов, не зная толком, как лучше им на свете жить.
А далее кратко, ибо в две строчки когда Карамзин писал, он вполне ясно — не превратно, метко о его волновавшем сказал. «Характер Нисы» — милое постыло. «Эпиграмма» — для вора свет является бедою. «Истина» — в любви всё лживо. «Мыслят и не мыслят» — живя, жить не хотят, умирая, жизнь делают мечтою. «Надгробие шарлатана» — кто пыль в глаза пускал, сам пыль теперь. «Перемена цвета» — девушка Лина дурна, ибо румян в городе нет. Стих «Непостоянство» — о Лине вторым напоминаем стал, читатель поверь. «На смерть князя Г. А. Хованского» — погиб славным на исходе данных ему свыше лет.
Автор: Константин Трунин