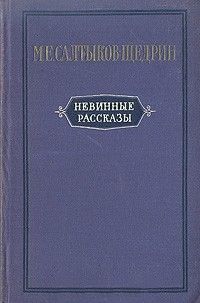Михаил Салтыков-Щедрин «Яшенька» (1857)

Иные рукописи Салтыкова редакторы литературных изданий не возвращали. Установить их датировку затруднительно. Получается разница в несколько лет. Таковой участи удостоилась и повесть «Яшенька». Снова читателю представлен слабохарактерный молодой человек, живущий чужими представлениями. Он настолько подвластен мнению окружающих, что сам ничего не может делать. Ему мнится, будто он глубоко несчастен, но настоять на своём у него не получается. Ему проще бросить всё и сбежать, стремясь избавиться от гнёта родных, тогда как уже может определять их положение в семейном кругу сам.
Не имея чувства собственника, Яшенька подвластен мнению матери: отправит его в гусары, пойдёт служить, призовёт обратно — тут же вернётся, скажет сидеть взаперти и не принимать пищу, то и тогда не станет перечить. Рано или поздно Яшенька задумается над происходим, ему уже минуло двадцать пять лет, он хозяин поместья, но робость не позволяет ощущать право на владение. Речь не о боязни обидеть мать, как и не об опасениях вызвать её слёзы, излишне говорить в подобном роде в отношении женщины со стальным характером, не собирающейся уступать занимаемых ею позиций.
Требовалось показать бунт против устоявшейся системы. Впечатлительный читатель станет искать аналогии, принимая под Яшенькой робкий народ Российской Империи, угнетаемый властью полицействующего монарха Николая. Русские люди однажды устроили восстание, на том же двадцать пятом году от начала XIX века. И приняли за то они наказание в виде смертной казни, либо ссылки на поселение в Сибирь. Похожего читатель ждёт и для Яшеньки, чьи порывы обязательно приведут к трагедии, выраженной в смирении и принятии неизбежного наказаниям за попытку овладеть тем, чем он должен был управлять самостоятельно.
Остаётся предполагать, насколько сведущим оказался человек, получивший рукопись с повестью от Салтыкова, не решаясь отослать обратно автору, не говоря уже о возможности публикации. Ещё не настолько утихли воспоминания о царствовании Николая, чтобы напоминать о происходивших в его правление судебных процессах над декабристами. Повесть не заслуживала огласки, пока люди не перестанут искать в литературе её применение к действительности. Сколько бы не прошло лет, сведущий читатель обязательно проведёт параллели. Слишком много схожих черт, дающих новое представление о творчестве Салтыкова, чья сатира требует более внимательного к ней отношения, учитывая яркость приводимых Михаилом образов.
Яшенька взбунтуется против матери, но спустя время смирится с неизбежностью, полностью принимая власть родительницы. Что ему оставалось, если на своём настоять не получилось? Лишь влачить жалкое существование, а потом тихо умереть, более не причиняя неудобств. Он посчитал в качестве лучшей доли необходимость остаться ребёнком, принимая неизбежные укоры, наказания и показывать, насколько покорен воле матери. Осталось понять, оознавала ли мать, какими последствиями грозит принижение значения сына, ведь стоит ему умереть, могут наступить нежелательные последствия.
Чего не было в тексте, того не было: ответ критику, нашедшему аналогии, к тексту отношения не имеющие. Придётся пожурить читателя, знакомящегося с текстом, дабы найти только художественную ценность. Оной в повести «Яшенька» нет, и не могло быть. Салтыков писал яркую сатиру, завуалировав истинные привязки к настоящему таким образом, что создал сумбурное произведение, так и не получившее должного внимания при его жизни. Творчество Михаила ценилось за попытку обличения порядков русского народа, но без прямого укора в адрес монаршей власти. В «Яшеньке», стоит вчитаться, сразу понятно, за кого нужно принимать действующих лиц.
Автор: Константин Трунин