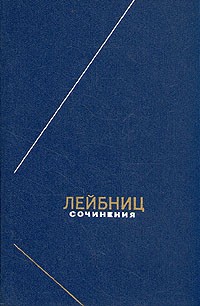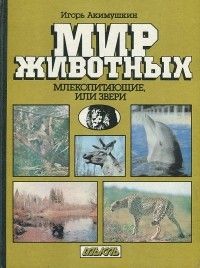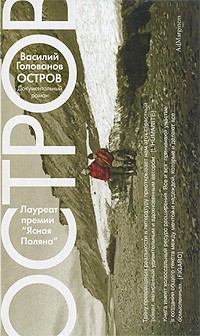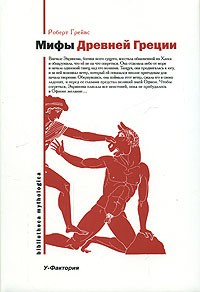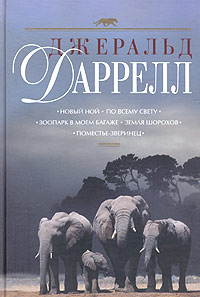Теодор Гладков, Николай Зайцев «И я ему не могу не верить…» (1983)
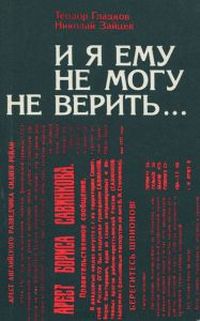
Не может такого быть, чтобы прошлое не имело шероховатостей. Обязательно имелось то, о чём ныне замалчивают, либо не знают. Но как относиться к информации, если знаешь, авторы текста намеренно искажают действительность, будто не понимая, насколько нужно быть глупым, чтобы поверить в представленный ими на страницах радужный задор? Тем более, когда речь касается становления Советского государства. В пору подковёрной борьбы, лабильности населения, отсутствия твёрдого понимания происходящего, не может быть настолько твёрдых убеждений, чтобы чувствовать в своих действиях абсолютную правоту. И всё-таки имелись фанатично преданные делу люди, истово веровавшие в победу пролетариата над капиталистическим миром, согласные пользоваться методами диктатуры, тем подавляя очаги оставшегося сопротивления внутри страны.
Теодор Гладков и Николай Зайцев взялись рассказать читателю о деятельности Артура Артузова, сотрудника советских органов государственной безопасности. Ими был показан путь сына швейцарца итальянского происхождения Христиана Фраучи и Августы Дидрикиль до одного из влиятельных лиц государства, о котором Феликс Дзержинский заметил — И я ему не могу не верить. Именно Артузову принадлежала основная роль в обезвреживании контрреволюционеров Бориса Савинкова, Сиднея Рейли и атамана Анненкова. Устранив угрожавший стране «Национальный центр», Артузов в дальнейшем предпочитал заманивать враждебные элементы на территорию Советского государства путём создания фиктивных контрреволюционных организаций. Таковыми были «Трест» и «Синдикат-2″.
Защита интересов государства подразумевает устранение угрожающих его безопасности людей. Артузов предпочитал не просто обезвреживать, он добивался раскаяния. Не так важно наказать человека, как добиться от него признания в заблуждениях. Доказательством успешной работы Артузова стало осознание контрреволюционерами бесплотности борьбы с государством, чьё население не желало видеть над собой никого, кроме советского правительства. Письменные свидетельства об этом наглядно демонстрируют успешность борьбы органов государственной безопасности. Гладков и Зайцев действительно считают, что всё написанное — есть акт чистосердечного порыва откровенности?
Повествование лишено важной составляющей — не описан итог жизни Артузова. Авторы не сообщают о том, что его в 1937 году расстреляли. Артузов погиб за то, против чего боролся. Его обвинили в сочувствии к троцкизму, организации антисоветского заговора и в подготовке терактов. Будь в тесте соответствующая глава, читатель обязательно бы задумался, насколько оправдана борьба за идеалы, когда они легко разрушаются, стоит кому-то захотеть видеть иное о них представление. Нельзя предсказать будущее, но можно увидеть в сегодняшнем дне предвестники грядущих перемен, выражающихся изменением прежних устремлений. При таком понимании защита Артузовым молодого Советского государства привела к его собственной ликвидации, ибо он стал опасен для тех, кто оказался свободным от страхов и волен был далее строить политику по личному усмотрению.
Также повествование лишено самого Артузова. Гладков и Зайцев мало уделяют ему внимания. Более на страницах раскрывается осуществление его планов руками других и воссоздаются портреты оппонентов. Представленные перед читателем личности Савинкова и Рейли показываются в их желании бороться с советской властью. Упор авторами сделан на непоколебимость и отчего-то присущее им ощущение собственной незаменимости. Получилось так, что одиночки всерьёз считали возможным найти ниточки, способные привести к быстрому перевороту. Они, подобно мотылькам, летели на разведённый для них огонь, сгорали, тем очищаясь от заблуждений.
Стоит ли говорить, что аналогично позже сгорит сам Артузов. Его манило пламя счастья для всего человечества. Во имя этого он работал, устранял преграды и истинно верил в лучшее. Но не сбылись надежды, сожжены оказались почти все, кто помогал ему в приближении радостного дня. Артузов был одним из первых.
Автор: Константин Трунин