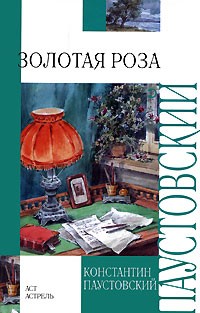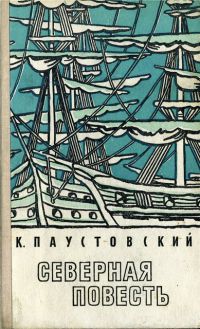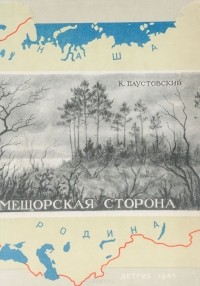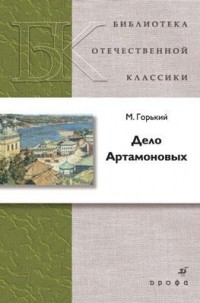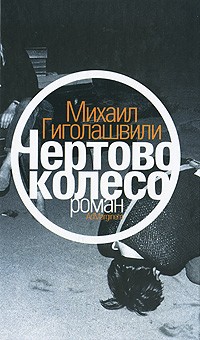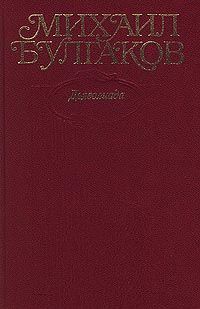Михаил Булгаков «Багровый остров» (1924)

К апрелю 1924 года Булгаков написал повесть «Багровый остров», опубликовав её в «Накануне». Что же помешало вынести в заголовок настоящее название острова, принятое местным населением? Они назвали его Багровым, подразумевая Красный. И в том была явная аллегория, приравнивающая страну Советов к туземным островитянам, над которыми на протяжении предыдущих лет укрепляла власть Британия и прочие колониальные державы. В один момент один из их кораблей прибило якобы к земле эфиопов, край с первобытным укладом жизни. Что же случилось дальше? Как то и произошло на самом деле — туземцы в краткий срок обрели способность противостоять всему миру, не считаясь с мнением желающих колонизировать остров.
До британцев остров эфиопов посещали французские и немецкие корабли, да что-то у них не получилось. Об их визитах остались среди местных только предания. Теперь британцы взялись спаивать эфиопов огненной водой, отчего вспыхнули противоречия: общество разделилось, началось брожение. Нарастающий конфликт остановило извержение вулкана, уничтожившее часть острова, убившее монарха и жреца, следом разразилась чума, появился новый лидер, перегнавший маис в огненную воду, тем истощив продовольствие, доведя островитян до голода. Если всё тут сказанное — не аллюзия на падение Российской Империи, то чем же оно тогда является? Приходится сомневаться, будто бы таких мыслей не придерживались сами современники Булгакова.
Продолжение повести — описание горькой судьбы беглецов, искавших лучшей доли, а получивших лишь тяжёлый труд и сомнительные перспективы. Михаил оптимистичен, для него всё только начинается, хоть и неизвестно, чем закончится сражение жителей Багрового острова с колонизаторами. На удивление Британии, туземцы научились отправлять радиограммы, управлять кораблями и даже наносить урон средствами современного вооружения. Но чему они ещё научились? О том читатель догадывается. Михаил же предпочитает остановить рассказ, поскольку продолжение ему ещё не стало известным, потому как истинное противостояние страны Советов в самом начале. Может кто после допишет продолжение за Михаила. Кажется, за его написание уже принялись.
Наконец-то Михаил взялся за то, что от него долго ждали. Вернее, чего ждал потомок, решивший знакомиться с его творчеством с первых написанных им строк. «Багровый остров» выглядит внушительным вкладом в искусство повествования эзоповым языком. Пусть Михаил и говорит, будто бы он перевёл на оный с французского некое произведение Жюля Верна. Тем он снял всякие подозрения, имея право говорить, что все совпадения случайны. Не мог ведь классик приключенческого романа писать о советской действительности, тем более придавая ей настолько вопиющую историческую достоверность.
Конечно, Жюль Верн ничего подобного не мог написать. Да вот неизвестно, какого именно Верна имел в виду Булгаков, называя сего писателя товарищем. Пусть не классик, тогда неизвестное литературным исследователям лицо. Оставим в стороне подобные домыслы. Остановимся на храбром поступке непосредственно Михаила. Он действительно иносказательно поведал о настоящем, увидел происходящее отстранённым взглядом, разменяв трагедию населения Российской Империи на уподобление деградации до уровня первобытного строя. Так яснее получилось рассказать, каких унижений удостоился народ, достойный отныне встать в один ряд с ведущими державами мира.
Булгаков мог и не испытывать таких чувств. Сомнительно, чтобы он радовался за успехи народившегося государственного новообразования. Оно вполне могло съесть само себя, своим воздействием разрушив данную ему под управление территорию, пускай и добившись поражающих воображение промежуточных результатов. В одном Михаил был прав точно — продолжать верить эксплуататорам рабочей силы нельзя, так Багровый остров превратится в сплошную каменоломню, без какой-либо надежды на достойное существование его жителей.
Автор: Константин Трунин