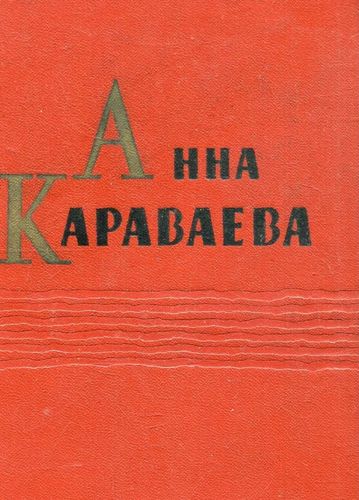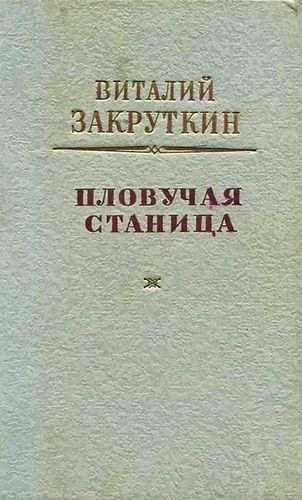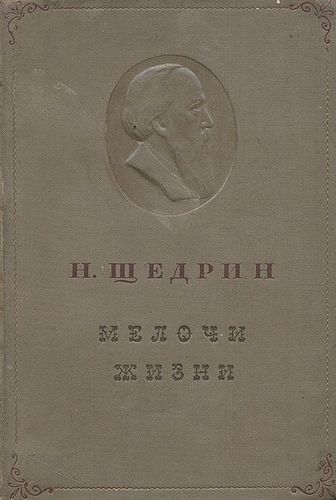Николай Лесков «Русское общество в Париже» (1863)
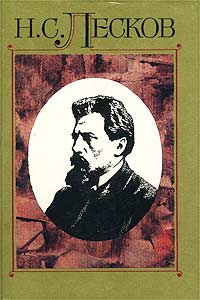
«Русское общество в Париже» состоит из трёх писем, первоначально опубликованных в пятом, шестом и девятом номерах «Библиотеки для чтения», после переработанные и опубликованные в виде второй редакции в первом томе издания «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого» за 1867 год. Была поставлена особого рода задача — описать русских в Париже. Прожив короткое время во Франции, Лесков сумел сделать некоторые наблюдения, теперь спеша ими поделиться с читателем. Особенностью времени стало то, что теперь за границу мог ехать любой русский, к какому бы сословию прежде он не принадлежал. Поэтому Николай сразу разделил русское общество на елисеевцев и латинцев. Первые прозваны по Елисейским полям, вторым — по Латинскому кварталу: соответственно по месту основного обитания. Вполне очевидно, елисеевцы — это богатые люди, латинцы — все остальные.
Да, с начала первого письма Лесков назвал читателя дураком. При этом заметив, читать он всё равно продолжит. Особого интереса у читателя потому не имелось. Да и кого описывал Лесков? Всё тех же бар и их прислугу, о чьих поездках по заграницам читатель знал и без того. Гораздо интереснее внимать содержанию второго письма. Во-первых, сами французы не привыкли к бедным русским, может вовсе прежде не ведавшие о существовании оных. Во-вторых, среди латинцев не встречалось женщин, только мужчины. Вследствие этого возникла необходимость во внимании со стороны местных девушек. Во французском обществе существовали легкомысленные особы, так называемые гризеты, всегда верные избраннику, настаивавшие разве лишь на необходимости общаться с ними на французском языке. Читатель начинал полагать, сам Лесков жил именно среди латинцев, учитывая столь красочное описание парижских нравов. Из русских газет в доступе — «Колокол».
Повествуя далее, Николай сбился на дела польские, чему причиной явилось январское восстание поляков. Лесков, в совершенстве владея польским, любил ходить в польский ресторан. Поскольку он столь же превосходно говорил по-французски, понять в нём русское происхождение не представлялось возможным. И когда поляки узнавали, откуда он приехал в Париж, просили не посещать польских мест. Николай спрашивал их, отчего они так себя ведут, если русские никогда с ними плохо не обращались, получая ответы в духе неуважения и нетерпимости.
В третьем письме продолжения описаний русского общества в Париже сразу не случилось, разговор касался отношения поляков и чехов к русским. Если Лесков пытался сочувствовать, поляки просили его не вмешиваться, предлагая делать революцию у себя в России, если таковое желание имеется. Но поляки не скрывали, что случись подобное в действительности, они видели в качестве народного царя кого-нибудь вроде Бакунина, Огарёва или Герцена. Касаемо чехов, Лесков отметил простоту общения. Или Николай предпочёл обойти вниманием причину? Чехи не находились под влиянием Российской Империи. Однако же, быть под немецкой или австрийской властью чехи не сопротивлялись.
Размыслив польский вопрос, Лесков вернулся в окончании третьего письма к елисеевцам, более повторив моменты из первого письма. Касаемо женщин, отправлявшихся в заграничные поездки, Николай посчитал их за болезных, так как они действительно отправлялись в дальний путь с целью поправить здоровье, не считая некоторых — имевших за цель срамные дела. Добавил Лесков и то, отразив тем сочувствие, сами русские не терпят вхождения в какие-либо объединения. Как не дели их на елисеевцев или латинцев, общего между ними всё равно не возникнет, в отличии от тех же поляков, хоть и раздираемых противоречиями, при том способных к объединению внутри определённых групп.
Автор: Константин Трунин