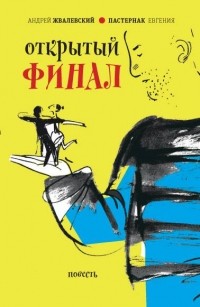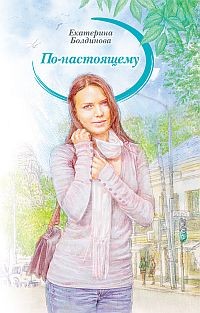Кэндзиро Хайтани «Взгляд кролика» (1974)

В чём проблема литературы, описывающей производственный процесс? Чаще всего — концентрация на чём-то определённом, словно ничего другого не существует. Если это детектив, то расследуется одно преступление. Если книга про медиков, каждому случаю долгое и продолжительное описание отдельной главой или целой книгой. Если про школу — рассказ о буднях учителей, готовых заниматься разрешением проблем учеников, ни на что другое не обращая внимания. Если бы литература описывала действительность, кто бы стал читать, как полиция задыхается от обилия сваленных на неё дел, а перед глазами медицинского работника каждые десять минут появляется новый пациент. Читать о таком потоке быстро сменяющихся ситуаций мало кому будет интересно. Вот и среди учителей не может быть такого, будто можно полностью сконцентрироваться на определённом классе, а то и вовсе на единственном ребёнке. Что остаётся делать? Создавать произведение по мотивам имеющего или имевшего место быть, о прочем вовсе забывая.
У Кэндзиро Хайтани был продолжительный период преподавания в начальных классах. Он с полным правом мог писать, поскольку знает о школьных проблемах из собственного опыта. Будем считать, использовал для книги настоящие случаи, если не полностью, то частично. На этой основе должен был быть воссоздан тот мир, с которым читатель теперь сталкивается, начиная знакомиться со «Взглядом кролика». А это особый мир — пространство для молодой учительницы, только начавшей вхождение в профессию. Перед нею дети заводчан, имеющие особо тяжёлый склад характера. Есть среди них такие, кто живёт отлично от других — скорее всего в силу склонности к аутизму. Как до таких детей достучаться? Об этом Хайтани и предлагает задуматься. А так как у молодого учителя нет необходимости заниматься другими детьми, представленными в виде общей кучи, находится много времени для воспитательной работы с проблемными.
На самом деле, проблемный ребёнок будет только один. Читатель не сразу поймёт, как такой мог оказаться в школе. Для них обычно существуют специализированные учреждения. Но нужно принять всё это за условности. Будем считать, в Японии семидесятых годов такое считалось обыденным явлением. Как и тот факт, что учитель одновременно выполняет функцию уборщика. Он ведь всё должен успевать делать.
Касательно ребёнка-аутиста, чьим увлечением является ловля и разведение мух, не всё так просто. Кэндзиро постепенно введёт читателя в курс дела. Окажется, увлечение складывается из работы с любыми другими мухами, кроме домовых. И не всякий читатель знает, насколько прекрасны прочие мухи по своей сути. Это особый мир! Чего только стоят журчалки и пилильщики. Хайтани о том не скажет, но существуют специальные устройства, вроде ловушки Малеза, позволяющей ловить множество насекомых. Нет, представленный вниманию ребёнок гениален. Он знает, каким способом приманивать нужных ему мух, какие действия предпринимать, чтобы они не смогли от него улететь. Благодаря учительнице научится систематизировать и писать их названия красивыми иероглифами, а после и создавать правдоподобные изображения. Что уж говорить за будущее такого ребёнка — дальнейшая его профессиональная специализация вполне очевидна.
Об этом, и не только об этом, Кэндзиро Хайтани в увлекательной форме изложил для читателя. Получилась книга о том, каким образом учитель должен взаимодействовать с детьми, не только обучая их по школьной программе, но и делая из них достойных членов общества. Только вот кажется — действительность в Японии не настолько благоприятная, и нагрузка на учителей огромная. Будем думать, исключения всё-таки случаются. Другое дело, как быстро наступает выгорание, и учитель устаёт бороться с системой.
Автор: Константин Трунин