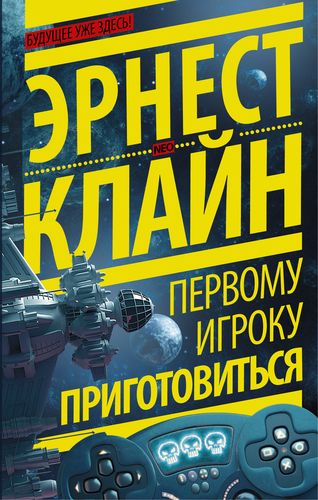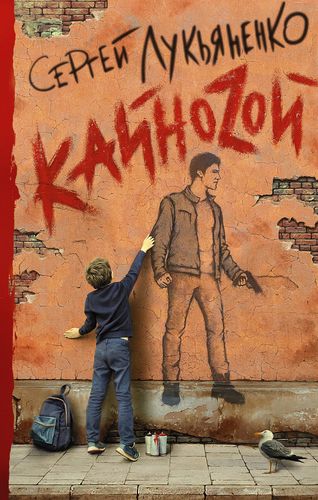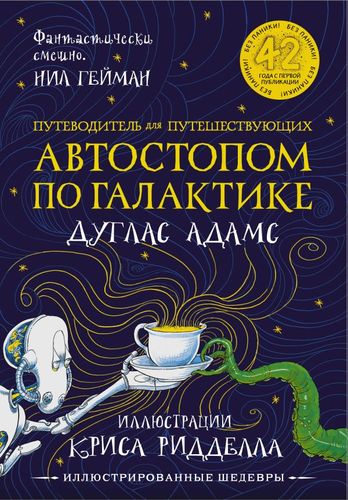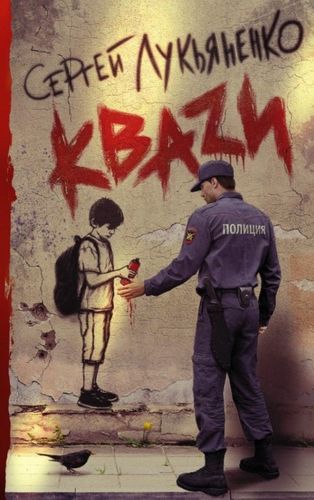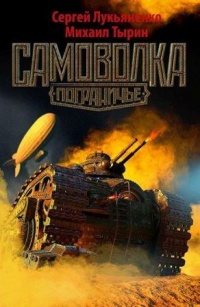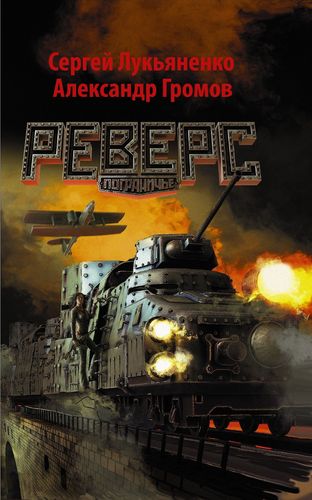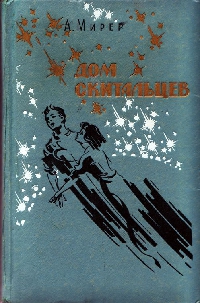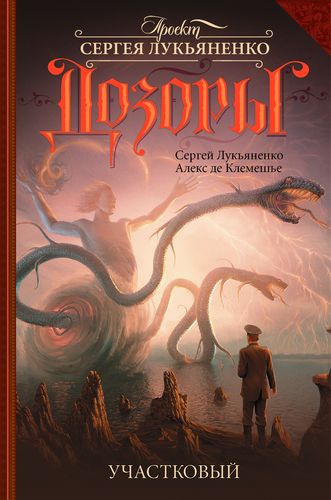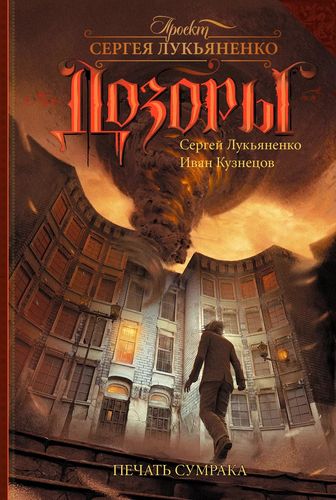Стефани Майер «Сумерки» (2005)
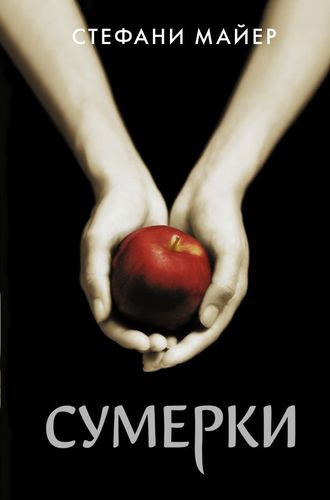
Цикл «Сумерки» | Книга №1
А помните как у Лукьяненко вампиры адаптировались к современным реалиям, работая на скотобойне? У Майер немного иначе. Можно сказать, вовсе не так. Её вампиры — создания, лишённые баланса. Всегда было принято уравновешивать силы. То есть вампиру полагается быть в чём-то уязвимым. По легенде все умертвия боятся солнечного света, являющегося для них гибельным. Бояться они могут и других веществ и субстанций. Собственно, как и люди, для которых нечто является ядом, тогда как для других живых организмов не несёт вреда. Однако, у Майер вампиры не являются умертвиями. Сложно сказать, кем они по своей сути являются. Скорее всего, это некое ответвление американской героики. Просто есть подобия людей, обладающие уникальными способностями, ставящими их выше человеческого рода. И только! Но читателю произведение понравилось совсем по другой причине.
Как бы не обвиняли Стефани в бедности языка, не на богатстве словарного запаса зиждется литература. Это как в том анекдоте, где в оригинале Боромир улыбнулся, а у переводчиков сочетание из двух слов превращалось в предложение, либо вовсе в абзац. Главное, что было сделано, — понятное для читателя изложение. История льётся, лишённая водянистости. А если кто начинает вникать в содержание глубже, требовать от автора раскрытия ещё более глубоких истин, тот действует из желания ознакомиться с продуманным произведением. Но такой цели не ставилось. Майер с первых строк показала, она пишет про девушку, родители которой в разводе. У этой девушки никогда не было друзей из-за её замкнутости. Теперь же она попадает в учебное учреждение, где есть такие же замкнутые люди, к кому она пожелает присоединиться. Вся дальнейшая фэнтезийная составляющая — желание самой писательницы написать нечто уникальное. То есть Стефани не стремилась писать ужасы про умертвий, жаждущих человеческой крови. Из-под её пера вышла книга о любовных переживаниях.
К чему это привело? Литература и киноиндустрия обогатились множественным количеством новых сюжетов, в том числе позволяющих иначе посмотреть на ставшее каноничным. Например, человеколюбивыми стали даже зомби. Читавшие Пришвина, знают, не надо бояться медведя в лесу, сам медведь обойдёт человека стороной. Так и прежде предпочитали пугать, нежели суметь наладить отношения между людьми и порождениями других стихий. Можно даже предположить, как однажды выйдет произведение о дружбе человека и вирусов, что станет логическим завершением невольной задумки от Стефани Майер.
Конечно, знакомясь с «Сумерками», читатель отмечает излишнюю романтичность. Слишком много нежности в глазах девушки. Не меньше нежности в холодных руках её избранника. Где-то там на горизонте намечаются танцы, как в любой американской киноленте про подростков. Возникают недопонимания и склоки, нужные для усиления читательского интереса. Стефани пользовалась всем набором инструментов, действуя именно ради придания истории притягательности. А потом окажется — её возьмётся ругать сам великий и ужасный Стивен Кинг, у которого добрая часть произведений написана в столь же примитивном исполнении, только с целью вызвать у читателя тревожность.
Возникает вопрос о нужности чтения продолжения истории. Майер написала ещё порядка шести книг. Если заинтересовала первая, или есть надежда прикоснуться к новым открытиям из мира вампиров и кого-нибудь другого из мифологического бестиария. Вдруг там окажется всё не в столь радужных оттенках. А может кого-то действительно интересует, каким образом сложится судьба главной героини и её возлюбленного. В любом случае, «Сумерки» стали в своё время знаковым произведением, чьё значение никак нельзя принижать.
Автор: Константин Трунин