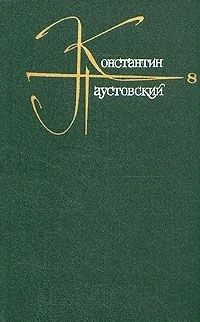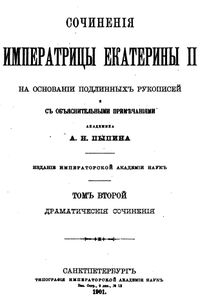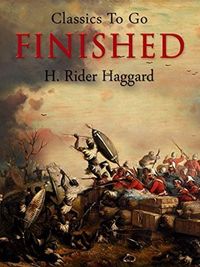Павел Бажов «Огневушка-поскакушка», «Ключ земли» (1940)
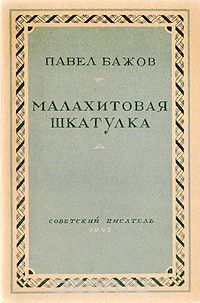
Изданный в 1942 году сборник сказов Бажова «Малахитовая шкатулка», годом спустя удостоился Сталинской премии. Он включил в себя такие важные для понимания творчества Павла произведения, вроде следующих: «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок» и «Горный мастер». Не считая вороха прочих сказов, написанных с 1936 по 1940 год. Все они обрамляют идею необходимости выработки мифологии непосредственно уже советского народа, должного изыскивать для будущего определённую отправную точку, обозначенную борьбой пролетариата с некогда господствовавшим классом управленцев, чаще поставленных царской властью в качестве надзирателей.
Лучше понимать сказы Бажова именно так, не прикрываясь особой целью изыскания фольклорных мотивов освоения русскими Урала и пространства за ним. Куда бы не шли переселенцы, везде они изыскивали нечто определённое, чаще мало отличимое. Но как-то не сохранилось преданий тех дней, может вследствие малого в том интереса. Ведь собиратели фольклора в XIX веке стремились познать седую древность, а не тот отрезок времени, который ими воспринимался исторически ничтожным. Соответственно, являлся для них малоинтересным. Вполне логично видеть стремление к познанию упущенного предыдущими поколениями. Беда в том, что советские исследователи обрекались на борьбу с идеологией, с которой они чаще вынуждены оказывались соглашаться.
И вот возник в литературой среде Бажов. В чём-то он предвестник всего того, к чему будут стремиться последующие поколения писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока — к поиску определённой идентичности. И всё равно крепко засядет в их подсознании необходимость описывать мытарства рабочего люда, вынужденного гнуть спину и принимать неизбежное. Подходить советские писатели станут непременно с этих позиций, поскольку имелась твёрдая установка, согласившись с которой, твой труд мог быть востребован читателем, ожидающим именно такого развития событий в произведении, благодаря которому опять получится пролить слезу на судьбу рабочего люда, находившегося в крепостном услужении.
С другой стороны, к чему стремится писателям Урала, Сибири и Дальнего Востока, как не к подобным сюжетам? Как не думай, а жизнь переселенцев была связана с трудностями, чьё преодоление казалось невозможным. Как нельзя пойти против воли царя, так и против поставленных им людей не пойдёшь — остаётся скрипеть зубами. И как бы далеко не забирались переселенцы, всюду до них дотягивалась рука закона. Посему, как теперь не обращайся к творчеству уральских, алтайских и прочих писателей, ориентирующихся на повествование о тяжести жизни людей, связанных с горами, всегда видишь сходные моменты.
Скажем ещё о двух сказах Бажова, написанных последними для опубликованного в 1942 году сборника. Первый из них — «Огневушка-поскакушка». Чего только не привидится в ночных посиделках у костра. То горы на горизонте начинают двигаться, то деревья необычно шелестят, а то и костёр так полыхает, что в его огне мерещится девчушка. А раз она видится, тогда, согласно поверий, вскоре в сих местах будет обнаружено золото.
Другой сказ «Ключ земли», первоначально публиковавшийся под названием «Ключ-камень», ещё одно стремление приблизиться к пониманию таинств горного дела. Существует ли знак, помогающий находить залежи драгоценных пород? Фактически признаком этого служили ящерицы, будто бы предпочитающие селиться там, где земля поистине богата. Но ведь могут иметь место быть некие артефакты, обладание которыми способствует облегчению поисков. И вот таковой предмет становится доступен. Да вот нужен ли он простому человеку? Счастья всё равно не принесёт, и богатством после не похвалишься. Разве только дашь повод кому-то сочинить красивую историю, вроде Павла Бажова.
Автор: Константин Трунин