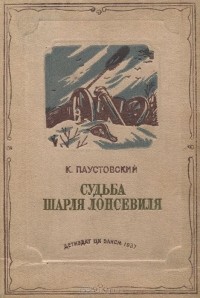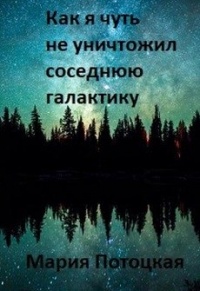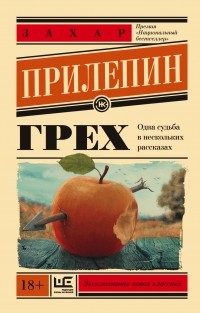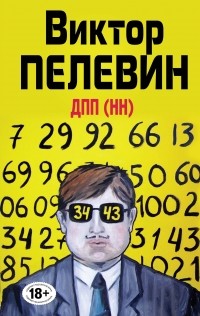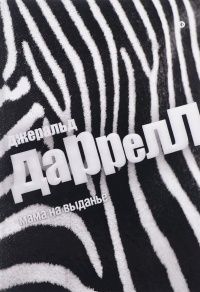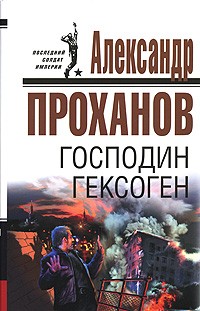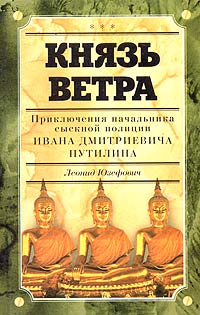Константин Паустовский «Озёрный фронт» (1932)
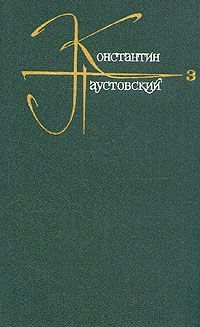
Пропитавшись жаркими речами рабочих, найдя в их устремлениях положительный задор, Паустовский подпал под согласие с бытовавшим тогда в стране подъёмом самосознания. Начало тридцатых годов XX века — время преображения, подобное короткому пробуждению перед погружением в бездну. Осознав жизнь и метания Шарля Лонсевиля, Константин должен был проникнуться ещё и обстоятельствами близкого прошлого. Речь пойдёт об иностранной интервенции на севере России. Там, в омываемых водами океана землях, развернулся фронт, разделив красных и белых полосой отчуждения в виде вмешательства в происходящее американских вооружённых сил. Кажется, прежде не было такого, чтобы русский шёл на русского, пропитанный гневом за собственное унижение. А ведь так и случилось в 1919 году, когда части белых устали от свинского к ним отношения американцев и согласились обрушить удар на прежнего союзника.
Обелять американцев не приходится. Вели себя они распутно и не собирались совершать человеческих поступков. Всё, что понял Паустовский, так это желание пришедших извне крушить и сокрушать. Без различия, с кем предстоит бороться. Американцы могли бросить гранату в безвинную девочку, находя в том своеобразное удовлетворение противных разуму желаний. Плоть человека стала разменным товаром, где удовольствие покупалось ценой чужого существования. Могли ли с подобным мириться представители белого движения? Пусть красная пропаганда рисует их такими же извергами, однако не настолько, чтобы убивать потехи ради.
Читателю будет представлен Фёдор Гущин — боец, матрос, сигнальщик. Он, опутанный представлениями белых, пропитанный гневом к американцам, склоняющийся перейти на сторону красных, вымолит право выступить против прежних убеждений. Не нужна ему Россия, если над нею раскроет крылья американский орёл, приведённый в сердце страны монархистами. Достаточно одной невинной жертвы, раскрывшей глаза на действительность. Потому Гущин добьётся желаемого и пойдёт убивать, но уже белых и американцев. Легко сломленный, он быстро падёт, забывший о необходимости отстаивать представления, которым дал клятвенное обещание быть всегда верным.
Такую историю требовалось рассказывать с жаром на устах, добавляя в текст идеологию. Не кто-то, а сами белые добровольно согласились влиться в ряды красных, поскольку разочаровались и не имели желания продолжать подобное терпеть. Не абы из-за какой причины, их всего лишь возмутило незначительное происшествие, случающееся на войне постоянно. Девочку могли убить не специально, случай направил гранату в её сторону. Остальное никого не интересовало. Паустовский о том и не рассказывал. Обид хватало за многое, но «Озёрный фронт» касается единственной, словно рождённой для поддержания нужного духа среди людей. Американцы и раньше не способствовали успеху дел у партнёров, значит и теперь не стоит ждать от них человеческих поступков. А ежели ещё и приходят к тебе домой с целью развлечься, быть им сведёнными в могилу.
Читателю придётся проникнуться рассказанной Константином историей. Не всё в ней сказано к месту. Картина повествования постоянно разваливается и её не представлялось возможным собрать обратно. Каждый раз читатель возвращается на место, где лежит труп девочки, пострадавшей от брошенной в её сторону гранаты. Можно простить американцев и действовать с ними заодно, переступая через тела убитых. А можно возмутиться и попросить сменить облик зверя на человеческий. Паустовский постарается это сделать, частично разобравшись в произошедшем. Но человек так устроен, что он постоянно прокручивает в голове некогда шокировавшие его обстоятельства. Как не оправдывай и не ищи требуемых для того слов — перебороть совесть не сможешь. Нужно закрыть глаза и больше их не открывать, иначе не получится успокоиться.
Автор: Константин Трунин