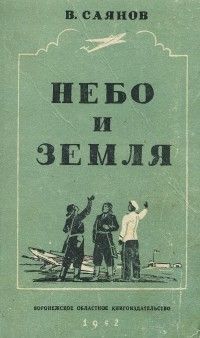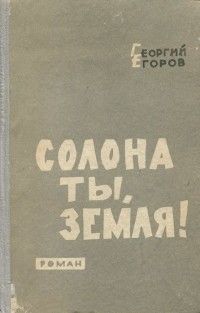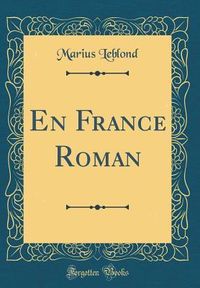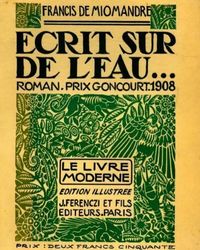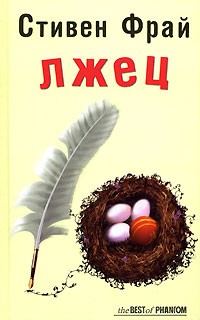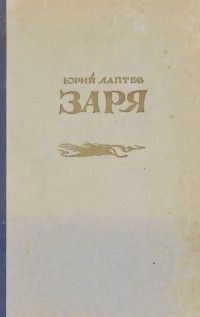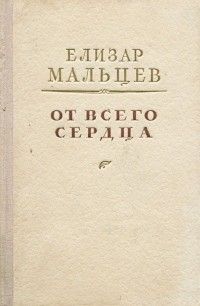Анатолий Суров «Зелёная улица» (1947)
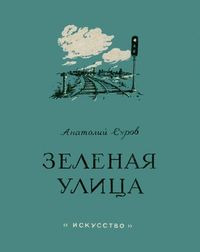
Как сделать так, чтобы заставить человека полюбить ему противное? Для этого нужно представить так, будто противное является желанным. Каким образом? Объяснить можно на примере стремления отвергать всё, чего следует избегать. Допустим, разве мог советский человек принимать продукт капиталистических стран? Вполне очевидно, делаемое на Западе — есть отрицательное качество, ни к чему хорошему привести не способное. Даже учитывая вероятность важности, сомнение в необходимости того остаётся стойким. Тогда возникает надобность обратного переосмысления. Идёт отторжение радио? Значит радио придумали в России. Телевидение? Придумано русскими. Может паровой двигатель? Само собой — Россия. Вертолёт? Из России с приветом! Под таким видом можно заставить верить, будто любая современная разработка имеет происхождение из России, только переосмысленная и будто бы заново открытая учёными Запада, тогда как надо правильно расставлять приоритеты — нельзя отказываться от своего же, каким бы чужим оно не оказывалось на первый взгляд. В таком духе Анатолий Суров и строил повествование пьесы, отражая тенденции своих дней.
К чему бы не стремился советский человек, он обязательно делает это к лучшему. Потому Суров и назвал произведение «Зелёной улицей» — зелёный свет нужно давать всему, способствующему развитию. При этом не так важно, насколько стремление способно оказаться оправданным. Главное — стремиться к достижению лучшего, тогда как до прочего дела нет. То кажется довольно непонятным, учитывая задор ради желания осуществления скорейших перемен. Расчёты могут делаться в спешке и с ошибками: с надеждой на единственное — кто-нибудь заметит и исправит. Подобное отношение к делу кажется невразумительным. Однако, если ради общего результата нужно жертвовать множеством недочётов — требуемое обязательно будет достигнуто.
Суров наглядно показывает, какие ошибки возникают на пути новаторов, с какими они сталкиваются трудностями, каким образом убеждают окружающих в целесообразности, как им указывают на ошибочность суждений в малом, при том соглашаясь на здравость мысли в большем. В конечном итоге может оказаться, что не настолько сильно ошибается человек, скорее не хватает знаний помогающим, ещё не достигшим уровня способности осознать верность замысла. Из чего следует очевидное — нельзя укорять людей в их деле, насколько бы ошибочным оно не являлось в общем или частном, поскольку никому не может быть точно известно, к чему приведёт замысел изобретателя. Конечно, рациональность постоянно будет возникать в мыслях у действующих лиц, дабы замысел сперва полностью формировался в голове, допускающий существование определённого процесса, после чего и приступать к его реализации. То есть уверенность должна быть практически стопроцентной.
Трудно представить, насколько востребованной могла быть пьеса с сюжетом о подобном. Разве шли рабочие люди на представление, где разыгрывалась повседневность, в той же степени для них обыденная? И без того понятно, производство нужно постоянно совершенствовать, каждый день добиваться всё более лучших результатов. А тут очередное напоминание, кому-то даже ножом по сердцу, настолько болезненное, из-за невозможности отстоять точку зрения, разбивающуюся о стену неприятия неуверенных в успешности замысла.
Уместным ли будет сказать, какое отношение к Сурову возникало у современников? Поговаривают, «Зелёная улица» — не его произведение. Тому приводились доказательства, указывалось на определённых писателей, кому следует приписать авторство. Но насколько это теперь следует считать важным? Чаще всего, особенно касательно сталинских лауреатов, по большей части не видишь различия между писателями, творившими на одной волне, поднимая темы, интересные тогдашнему обществу сугубо по настойчивому желанию партии и товарища Сталина.
Автор: Константин Трунин