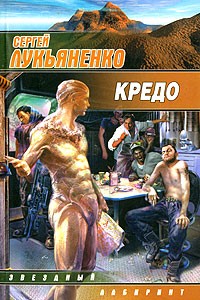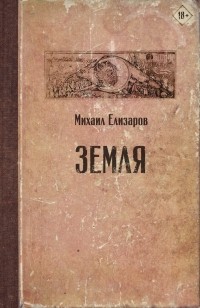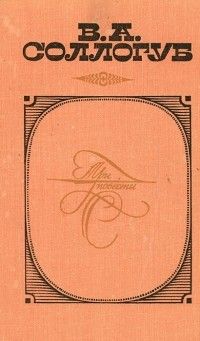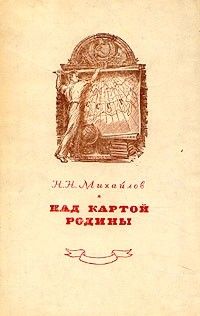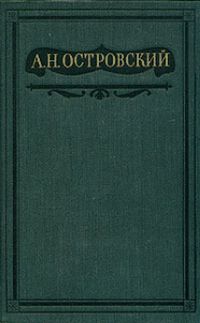Сергей Лукьяненко «Черновик» (2005)
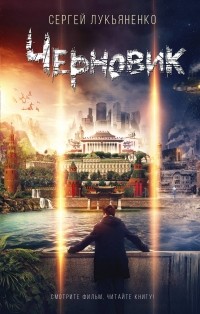
Цикл «Работа над ошибками» | Книга №1
И вот Лукьяненко замкнулся. Позади столько придуманных миров, что продолжать измышлять новые в таком же духе уже не можешь. А не объединить ли прежде написанное? Допустим, пусть иные существуют, но совсем другие, желательно обладающие огромным потенциалом, имеющие значительные ограничения. Каким же образом о них повествовать? Сперва нужно хорошо подумать. Герою следует потерять всё, стать никем. К чему это приведёт? Сергей его вычеркнул из жизни. Каким образом? Он перестал восприниматься людьми. Что дальше? Как раз после и начинается основное содержание, которое строилось сугубо на описании ещё одной Вселенной. Что же, читатель, добро пожаловать в мир функционалов, тебе не будет грустно и одиноко, теперь твоя очередь слушать о том, как общество ставит эксперименты с помощью способности влиять на миры, похожие на параллельные.
Что для Лукьяненко было главным, так показать, насколько жизнь человека иллюзорна. Кажущееся должным быть — таковым может и не являться вовсе. Вот существует реальность, где население стремится к всеобщей благости. А чтобы выработать лучшую модель, проводятся изыскательные работы. Так на нашей планете, имеется ввиду Земля, общество разделено на государства, преимущественно исповедующие демократические принципы устройства социума. Могут ли существовать другие земли? Могут! Сергей предложил вниманию разнообразие. И дабы проще показывать, он сделал главного героя хранителем врат.
Хоть тресни, будешь вынужден вспомнить «Пересадочную станцию» Клиффорда Саймака. Это там рассказывалось о домике, куда наведывались инопланетяне. Хранитель того места обладал бессмертием, вследствие чего испытывал подозрительность соседей, удивлявшихся его способности не стареть. То детище американского фантаста, любившего краткость, чего не скажешь о Лукьяненко, пусть и дающего пищу для воображения, чаще предпочитая останавливаться на отвлекающих моментах, вроде описания бытовых неурядиц. Герой Сергея — такой же хранитель пересадочной станции, он же функционал-таможенник, осуществляющий возможность для всех желающих переходить из мира в мир.
Казалось бы, главный герой обрёл бессмертие, он отныне первоклассный боец, ему обеспечен стабильный приток денег. Чего ещё желать? Захочет вкусно поесть — отправится к функционалу-ресторатору. Отдохнуть на райском острове? Сам же откроет нужные врата. Всегда может вернуться на Землю, побродить по улочкам некогда родного города. Но ему просто обязательно станет грустно и одиноко. Ему бы начать требовать в качестве оплаты за проход не денежные средства, а интересные истории. Впрочем, подобное у Лукьяненко уже было. Зато теперь читатель знает, почему подлинной платой может быть простой разговор, способный скрасить бесконечно долгое существование.
Создавая Вселенные, Сергей любит их разрушать. Прекрасно выстроенный мир, лишь способ найти возможность для его уничтожения. Окажется, действительность поистине иллюзорна. Есть один мир, диктующий волю остальным, живущий по собственным понятиям морали. Пусть на происходящее на Земле это особо не влияет, зато кому-то становится сильно обидно, из-за чего они начинают вести разрушительную деятельность. К числу таковых уничтожителей, или стирателей, решит причислить себя главный герой. Он возглавит сопротивление, поведя борьбу едва ли не самостоятельно. Требовалось ли именно это? Лукьяненко не стал искать другого развития событий.
Как не думай, любой помысел к достижению лучшего из возможного — шаг к переходу в худшее из состояний. Это закон жизни, с которым нельзя справиться. Может прав Сергей, приведя ещё один мир к разрушению, либо вовсе не прав: читатель определит самостоятельно. Что до придуманного для произведения мира, Лукьяненко не был первым, кто позволил главному герою изменять реальность прямо на ходу с помощью силы воображения.
Автор: Константин Трунин