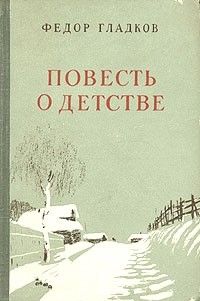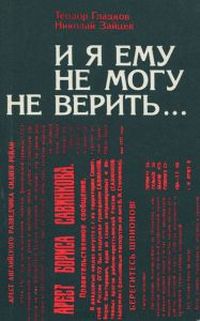Фёдор Гладков «Вольница» (1950)

Не беспросветный мрак — но всё же! Читатель не сразу поймёт, почему Гладков за вторую книгу, изложенную в жанре беллетризованной автобиографии получил Сталинскую премию, на этот раз первой степени. Что такого он сообщил, отчего был поставлен на один уровень с таким произведением, которое безусловно заслужило награду, «Жатвой» Галины Николаевой. Рассказал Фёдор, прежде всего, о собственном представлении прошлого, каким он лично хотел бы его понимать. И не обязательно, будто он упомнил всё с предельной точностью, учитывая прошедшую с той поры половину века. Читатель увидит, насколько жизнь в России не претерпела изменений. И если по жизни в деревне это казалось вполне допускаемым, то теперь Гладков описывал другие места, где всё сохранялось в прежнем виде.
Что увидел Фёдор в своих воспоминаниях? За пределами деревни жили люди разительно иначе. Они причудливо одевались, отличались своеобразным поведением, могли улыбаться тебе, либо стараться тебя обобрать. Ни в чём герой повествования не был готов к ожидавшим его переменам. Он долго будет удивляться, почему жизнь менялась, а порядки оставались прежними. Вследствие какой причины продолжалось отделение черни от остальной части общества? Читатель ведь понимал — герой повествования относился как раз к той самой черни. Потому плыть им по реке четвёртым классом. И потому не иметь надежд на хорошее к себе отношение. Справедливо ли, должен был задуматься читатель. Заодно размышляя над целесообразностью существования того строя, где имелось подобного рода разделение. Иной читатель вовсе недоумевал, когда понимал, насколько уравнение низвело всех на положение четвёртого класса. Именно в таком духе читатель должен думать, принимая построение мыслей юного героя повествования, с таким непониманием тогда пытавшегося осознать новый для него мир.
Жизнь и не может измениться в какую-либо сторону. Может был краткий период мнимого благополучия, всегда переходящий от оного на прежнее положение. Как в юные годы Гладкова, так и во многие другие времена, не приходилось думать о праве на вольное мнение. Пусть в той же «Жатве» Николаева писала про способность каждого претворять свои мысли в действительность, но только некоторых членов общества, тогда как другие должны были следовать указаниям над ними вставших. В какой форме на это не посмотри, всё зависит от способности определённых людей добиваться соответствующего положения. Вот и кажется, будто баре ушли, вместо них появились другие — назвать кого можно хоть тем же самым словом, либо неким другим. И после иначе не будет. Даже в более поздние годы, когда всё придёт к очередному мнимому благополучию — редкий начальник станет отличным по своим размышлениям от тех же самых бар.
Но это малая часть повествования от Фёдора Гладкова. Он вспоминал, как ему приходилось трудиться. На первых порах делал это неумело, до волдырей на руках. Не мог тогда соотнести порывы сделать качественно и быстро с реальными физическими возможностями. Со временем научится, найдёт друзей по наивному пониманию истинности дружбы, когда скрепляют негласное соглашение посредством соприкосновения кровавыми порезами. Под конец Фёдор предложит читателю осознание пришедшей на Волгу холеры. Период становления героя повествования должен был перейти в следующую стадию. Вероятно, и за неё Гладков обязательно бы получил Сталинскую премию. Но того не случится, поскольку её написание затянулось, публикация книги «Лихая година» состоится только в 1954 году. Если читатель готов продолжить знакомиться со становлением Фёдора — есть смысл обратить внимание.
Автор: Константин Трунин