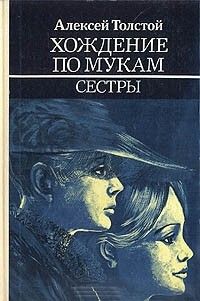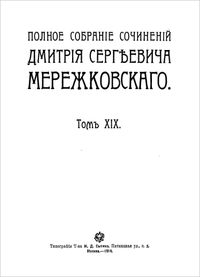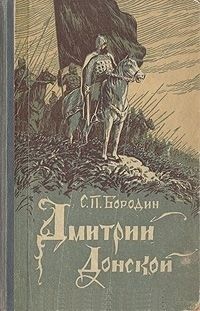Василий Шукшин «Демагоги» (1961)
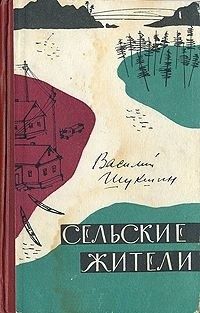
Вновь Шукшин сталкивал в рассказе старое поколение и юное. Теперь он сообщал про деда с внуком, как отправились они с раннего утра на рыбалку и провели в общении до наступления позднего времени суток. Случиться с ними случалось разное, единожды дед едва не утоп, благо спасённый сноровистостью внука. По глупости, разумеется, дед запутался, разговорившийся не в меру. И внук его спасал, не прилагая мысли, действуя по наитию. Два сапога — пара: сказали бы про них люди. Может и говорили они так. Между ними малая разница. Заключается она в том, что дед жил по заветам предков, зная всё о с ним происходящем, ибо ту мудрость до него донесли наблюдательные отцы. Внук от него не отставал, умея и сам сообщить полезные сведения, которыми дед не располагал. Почему так? Всё-таки юнец учился в школе, в которую дед, надо полагать, не ходил.
Читатель каждый раз вспоминает — дед с внуком пошли на рыбалку. И Шукшин о том помнит, но ловить рыбу у героев повествования не получалось. Они шли вдоль реки и высматривали место получше. Какое бы не выбрали — всё не то. Где-то одна причина, где-то другая. Почему не тут? Мог спросить деда внук. И затягивал в ответ дед историю про утопленника, вроде как именно тут и нашедшего упокоение. А разве это мешает рыбачить? Для деда это очевидно. Он живёт верованиями предков, такой же суеверный, какими были они. Внук к тому склонности не имел, объясняя школьными знаниями. В самом деле, как утопленник может повлиять на рыбалку? Умер он давным-давно, может более полувека с той поры прошло. Да и дед не имеет уверенности, будто всё в здешних местах случилось.
Конечно, разговор о рыбалке порою лучше самой рыбалки. А выловленная рыба в чьей-то с жаром рассказанной истории, приравнивается к собственноручно выловленной такой же. Поэтому удить у деда с внуком не получалось. Они шли дальше, продолжая травить байки. В своих историях они насаживали червя на крючок, затем умело одолевая хитрость очередной речной обитательницы, в совершенстве владея мастерством рыболовов. Как обычно и случается — за теоретическими знаниями практические навыки могут не поспевать. Стоит ли удивляться, видя в героях Шукшина краснобаев, едва стоило им отважиться на ужение, как по воле случая удалось избежать трагедии.
Нет, ничего не огорчало героев повествования. Они продолжали перед друг другом строить всезнающих. Дед твёрдо знал, почему реки наполняются водой не только по весне, но и летом — по причине таяния снега и льда в горах. Знает дед и о земле, твёрдо уверенный — бывает она жирной. Внук не поверит ему. Разве возможно такое… жирная земля? Не маслом ли она вымазанная? Есть отчего читателю усмехнуться и взгрустнуть. Но дед передаёт внуку знания прежних поколений, которые юное поколение должно обязательно суметь принять. Прочему действительно научат в школе.
Как же всё-таки быть с рыбалкой? Солнце близилось к закату, улова не свершилось. Матери юнца останется развести руками. Честно говоря, она и не ожидала пойманной демагогами рыбы. Шукшин ввёл её в повествование специально, так как, без вмешательства в происходящее нового лица, поставить точку в рассказе не получалось. Вместе с тем, читателю преподносилась суть содержания, характеризующаяся многословием без какого-либо результата. Только читатель и сам понял, что результат не всегда зрим — порою он сугубо умозрителен.
Автор: Константин Трунин