Михаил Салтыков-Щедрин «Мелочи жизни. Читатель» (1887)
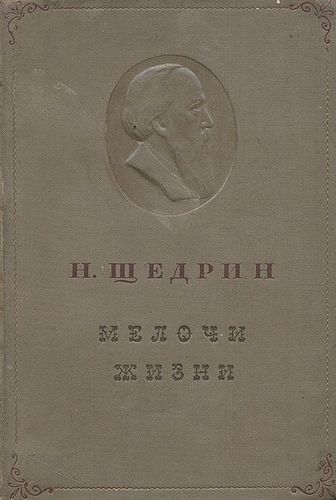
Если бы Салтыкову запретили писать вообще, отправив под строгий надзор, что могло тогда с ним произойти? Например, Тарасу Шевченко некоторое время запрещали прикасаться к бумаге и к писчим принадлежностям. А Михаилу просто разрушили жизнь, закрыв «Отечественные записки». Став заложником ситуации, он смягчил позицию противления, окончательно смирившись к «Мелочам жизни». Салтыков так и говорил редакторам, дозволяя им вносить любые правки, лишь бы публикация состоялась. Поступал так Михаил в виду острой нужды. И вот к маю 1887 года он взялся написать очерки о непосредственно самих читателях. При этом сделал предуведомление, сказав, писатель пишет ради того, чтобы его читали, а некоторые представители пишущей братии — сугубо ради мзды. Разумеется, себя к последним Салтыков не причислял.
Первый очерк — «Читатель-ненавистник». Таких читателей писатели не любят больше всего. Они вдумчивы и придирчивы, уделяют внимание каждому слову. Читают не ради чтения, имея мыслью разнести читаемое в пух и прах. При этом ненависти за данным читателем не водится. Скорее, такого читателя следует назвать ратующим за объективность. Это писателю видится проявление ненависти. Салтыков так и отмечал — чаще всего читатели-ненавистники оказываются правыми в суждениях. Но и они могут иметь отличия друг от друга. Одни из них предпочитают оставаться одиночками, другие — собираются в группы по интересам. Однако, читая между строк, рядовой читатель всё же отметил направленность очерка против цензуры. Именно цензоры разбирают порученные под их ответственность тексты. И должно быть очевидно, из каких побуждений цензоры отдавали значение каждому слову, скорее обеспокоенные возможностью пропустить любой намёк на действия власти, вынужденные видеть в самом отдалённом способное побудить к неправильным мыслям.
Второй очерк — «Солидный читатель». Чем-то этот тип способен напомнить газетчика непомнящего, хотя Салтыков называет его кумом читателя-ненавистника, в отличие от которого солидный читатель читает в не силу потребности, а по имеющейся у него склонности к чтению. Обычно солидный читатель не вникает глубоко в текст, знакомится с ним поверхностно. Чаще отдаёт приоритетное значение чтению новостей по утрам. Мыслит такой читатель сообразно текущей минуте. То есть нужно понимать, что существуют читатели, желающие читать по внутреннему к тому стремлению, но разбираться в прочитанном у них нет надобности.
Третий очерк — «Читатель-простец». Прежде читать могли только обеспеченные люди. Достаточно вспомнить малое количество экземпляров подписных изданий, должно быть прилично стоивших. Теперь газеты и книги начали печатать массово и продавать за доступные средства. Появилось множественное количество читателей-простецов, за счёт которых те же писатели смогли наладить в меру безбедное существование. Никаких ярких характеристик таким читателям Салтыков давать не стал.
В четвёртом очерке — «Читатель-друг», скорее являющегося заметкой в несколько абзацев, Михаил имел желание упомянуть тип читателя, с которым он никогда не встречался. Существует ли такой вообще? Есть твёрдая уверенность — он обязан существовать. Должны ведь быть люди, обладающие умением радовать писателя, прощая ему все его огрехи, побуждая к дальнейшим творческим свершениям. Другое дело, читатели-друзья не спешат заявлять о себе, разумно опасаясь показаться докучливыми. Впрочем, не всякий бы взялся признаваться в симпатиях к творчеству Салтыкова, и даже не в силу возможности быть заподозренным в крамольных мыслях, чаще из сложности в способности усвоить огромный массив информации, обычно сообщаемый Михаилом через иносказание. В чём не всякий современник мог разобраться, в том потомки не смогут разобраться тем более.
«Мелочи жизни» заканчивались этюдом «Счастливец», опубликованным в июне, про человека, жившего успешно, чуть не ставшего губернатором, под старость лет начавшего интересоваться псевдополезными науками.
Автор: Константин Трунин

