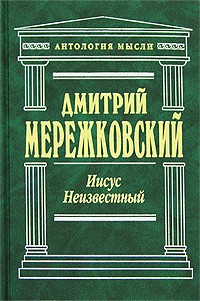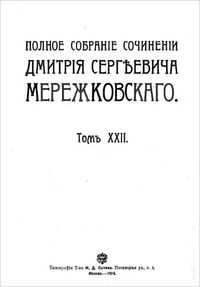Дмитрий Мережковский — Песни и легенды (1889-91)
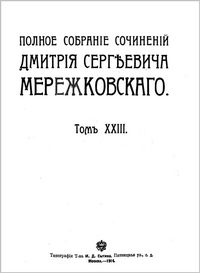
Объять постараемся немного стихов, разбавим общий поэтический улов, есть творения в цикле Дмитрия работ, в которых не каждый дату разберёт. Потому, вольно сообразуясь с мыслью простой, представим массив за написанный в срок такой. И начнём с произведения «Бог», поэмы, поднимавшей важные для христиан темы. Мережковский к точке зрения философов склонился, для него мир в образе Бога явился. Всё — есть Бог, ибо Богом сам мир является: в том идея его познания заключается. Потому не нужно смерти сторониться, умирая, с Богом должен слиться. Чему суждено — того следует дождаться, иным мыслям не нужно предаваться.
Вот «Пророк Исайя» — о тяготе Бога познания, ведь даже Бог может быть удостоен изгнания. Вспомните Грецию древних времён, где лучший из граждан от родных краёв мог быть отлучён, изгоняли, остракизму подвергая, тем свои помыслы никчёмные от искоренения спасая. Вот следом про «Одиночество»: к чему не стремись, одиноким останешься, не суетись. Вот «Волны», где человек рабу уподобляется, ибо не живёт, а мукой мается. Лучше волнами стать человечеству в океане безбрежном, жить без забот в мире грешном, не ведать о происходящем, не задумываясь наперёд, течение бурное подхватит или о скалы разобьёт.
Вот отправился Дмитрий в путешествие, впечатлениями делился. В стихотворении он «Римом» насладился. Подобием гекзаметра писал «Пантеон», снова про Рим, но «Будущий Рим» стихотворение прочтём. «Колизей», «Марк Аврелий», «Термы Каракаллы», «Сорренто», «Капри» — строки изливаются на читателя как вдохновения капли. «Праздник Св. Констанция», «Везувий», «Помпея» — писать об увиденном неплохая затея. «Тибур», «Addio Napoli», «Возвращение» — иссяк поток для вдохновения. «Небо и море», «У моря», «На южном берегу Крыма» — стихов порция очередная, жизнь становилась богатой на впечатления, пора была золотая.
Вот мистерия «Христос, ангелы и душа», написанная, наверное, еле дыша. О Христе разговор зашёл, как Христос девушку обрёл, но от него постоянно отдалялась, душой, ищущей рай, она оказалась. Вот легенда «Монах» — как святой человек за стены монастыря вышел, бродил в задумчивости, ничего не слышал, вернулся назад, но едва узнал те места, и его никто не узнал… чудеса. Оказалось, триста лет назад монах из обители пропал. Такой нонсенс Дмитрий стихом показал. Есть ещё легенда «Имогена» — Мережковского похвальны старания. Вот стих «Томимы грустью непонятной» — открыто сердце для божественных речей понимания. Есть стихотворение «Гимн красоте», но смысл в оном затерялся незнамо где.
Вот очерки современного Парижа под названием «Конец века» сообщены, отразил Дмитрий впечатления свои. Увидел он Париж городом, где вольно получается дышать. Воспринимается городом, что может вдохновлять. Ведь есть Ренан, Бодлер, Золя, и другими талантами полнится сия земля. Неважно, насколько аморфным Париж стал, насколько дух Свободы, Равенства и Братства там измельчал. Неважен с угрюмым выражением лица народ — лучше русского француз живёт. В России ничего, кроме болтовни нет, ничем осмысленным не наполнен высший свет, разве только завести разговор о Толстом, чьи мысли должны порядкам принести слом. Но как не думай о России, сколько её не хули, пожелаешь вернуться в края родной земли, где не столь вольно дышать, зато присутствие родного можно ощущать. Пусть дух не тот, но и в России революции предстоит быть, остаётся до этого только дожить. Пока ещё не ведал Мережковский, насколько пророком окажется верным, приближая революцию едва ли не первым. Может в нём дух парижанина говорил, пускай аморфный, главное — зарождался революционный пыл.
Автор: Константин Трунин