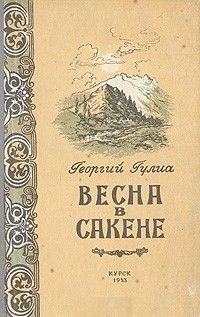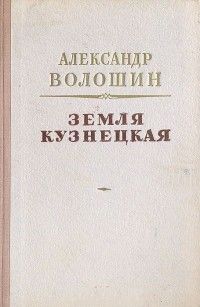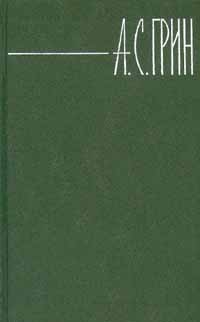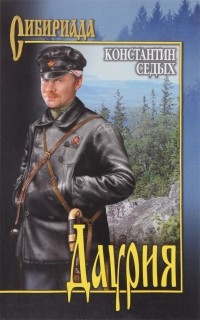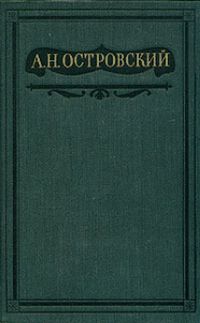Елена Алексанян «Константин Паустовский — новеллист» (1968)
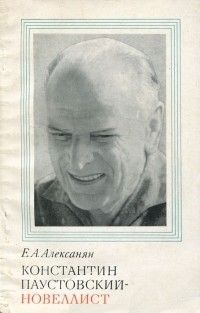
Паустовский прославился жанром короткого повествования. Даже его крупные произведения — набор рассказов. И сложилось это благодаря тому, что Паустовский входил в литературу более в тридцатые годы, когда данная форма изложения считалась наиболее оптимальной. Но не на этом Елена Алексанян останавливалась, предпочитая раскрывать понимание творчества Константина через его сравнение с другими писателями. И всё же Паустовский — писатель, опиравшийся на одни воззрения, к зрелости придя к прямо противоположным. Довольно просто судить, если брать для начала первые опыты писателя, от которых веет романтизмом в духе Александра Грина, а потом переход к работам, вроде «Кара-Бугаза» или «Колхиды», где нет ничего, кроме стремления к рационализму. Затем и вовсе Паустовский уходил размышлениями куда угодно, только бы не задевать тему противостояния человека и природы. Именно на этом изменении взглядов Елена Алексанян строила собственное понимание писателя.
Однако, не каждый обладает способностью красиво описывать окружающую действительность. Ежели брать любую местность, где побывал Паустовский, попробовать её описать, то скорее всего не сможешь найти вообще никаких слов. Как не пытайся — не заметишь ничего примечательного. Алексанян так предлагает судить на примере города Таруса. Есть в данном поселении некая черта, способная взволновать душу? Сколько не пытайся, обнаружить такую не сможешь. А у Паустовского получалось. Он не раз рассказывал про город, находил в нём своеобразную прелесть, невзирая на неустроенность тамошнего быта, ничуть не поменявшегося за все годы царизма, оставаясь таким же и при советской власти. Не обязательно говорить про Тарусу, мало примечательного человек находит и в тех местах, где постоянно проживает. Кто-то скажет, будто ему приелась окружающая обстановка, и будет в чём-то прав. Только вот живи в тех краях Паустовский, он бы нашёл множество моментов, используя порядочное количество слов для восхищения. Всё это Алексанян подмечает с самого начала повествования.
Стремясь понять взгляды Паустовского, Елена использовала выдержки из его творчества, дабы на том основывать собственную позицию. Пускай тот метод веет неким академизмом, ни в чём не имеющим отношения к реальности, так привыкли делать, особенно при составлении сочинений. Учитывая количество оставшегося после Константина материала, не каждое его слово может быть увязано непосредственно с бывшим ему присущим мировоззрением. Скорее Елена находила так ей нужные слова, того считая вполне достаточным для обоснования высказываемых суждений. Оставалось озаботиться главным, придать творчеству Константина вес. Поскольку при жизни Паустовский был читаем, да не настолько, чтобы о нём смели громко говорить. Для этого Алексанян дополнительно внесла в повествование отсылки на творчество Льва Толстого, Антона Чехова и Максима Горького. Вспоминать при этом про Пришвина и Грина не требовалось, но совсем этих писателей Елена обойти вниманием не могла, учитывая их явное влияние на произведения Константина.
Отдельно Алексанян разбирается с героями произведений Паустовского. Ведь они были отражением автора, такими же неисправимыми романтиками сперва, впоследствии изменяясь в тех, для кого действительность становится подспорьем в осуществлении планов по преобразованию лица планеты. Вроде бы уже не литературные герои, а сам писатель становился персонажем. Именно Паустовский был тем, кого он постоянно описывал на страницах произведений. Но насколько это имеет отношение к нему, когда о нём говорят как о писателе? И надо ли об этом вообще говорить? Ничего иного не оставалось: было бы подлинно важно с чрезмерным вниманием к этому обращать внимание читателя.
Автор: Константин Трунин