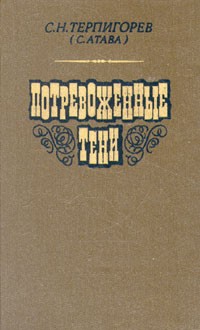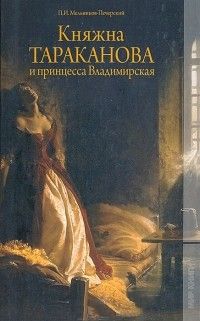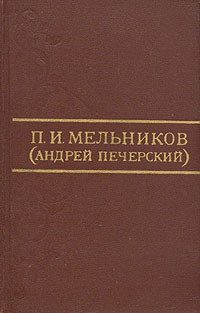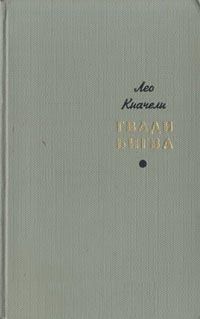Алексей Новиков-Прибой «Цусима. Книга I. Поход» (1932-35)
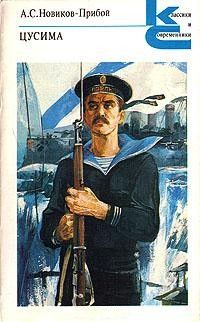
Как Новиков-Прибой на «Орле» до Цусимы ходил? С величайшим презрением! Он — революционер, ратующий за справедливое распределение человеческих благ на планете, оказался вынужден поддерживать противное для него мероприятие: войну империалистических держав. Будучи социалистом, в 1903 году за пропаганду взглядов арестован и определён на броненосец «Орёл». Так ему случилось отправиться сражаться в японские воды, против чего он не мог предпринять никаких действий. Почему же он не взбунтовал матросов во время похода? Очень просто, дабы не допустить раньше времени противодействия правительства социалистическому движению. Именно так он оправдывался перед читателем. Новиков предпочёл стать участником Цусимского сражения и принять смерть, поскольку иного быть не могло, к чему он постоянно будет подводить повествование. Так уж сложилось, что армией и флотом в России со времён Александра III управляют бездарные командующие. Иного «полезного зерна» читатель из текста не вынесет.
Роман-воспоминание «Цусима» разделён на две книги. В первой рассказывается о событиях до и после Цусимского сражения. Начинает Новиков с извещения о печальной участи российских моряков, частью утонувших, частью взятых в плен. Среди пленных пребывал и он сам. Затем Новиков вернулся домой, уже не застав мать в живых. Однажды ему захотелось написать рассказ, что он и сделал. Полученного гонорара хватило на добрую пирушку с товарищами по флотской службе. Оказалось, писать у него получается, значит нужно браться за произведение большего размера. Да и была мечта у Новикова описать Цусимское сражение.
Никто не хотел воевать: утверждается в первой книге «Цусимы». Предпринимались всяческие попытки оградить себя от участия в будущих сражениях. Офицерский состав занимался порчей кораблей, из-за чего их приходилось ремонтировать, а значит и выйти в море они не могли. Матросы наносили урон своему организму более прозаическими способами, то есть могли ходить по кабакам в страстном желании обрести венерическое заболевание. Подобная характеристика предвоенного настроя никак не соответствует периодическим изданиям тех лет, описывавших обратную картину, говоря о широкой поддержке населения, готового снабжать армию и флот деньгами, в том числе и самолично отправляясь в место боевых действий. Следует учесть непосредственно взгляд самого Новикова, представляемого всюду на страницах политически подкованным человеком.
Поход — это зря затеянное мероприятие. Не те офицеры находились у командования эскадрой, дабы суметь провести флот до берегов Китая и Японии. Требовалось обогнуть Европу и Африку, чтобы выйти через Индийский океан к Порт-Артуру. На пути случится множество несуразностей, чему повинны окажутся как раз офицеры. То они примут за вражеские корабли рыбацкие лодки, то заставят трудиться под жарким африканским солнцем, то совершат иную оказию. Причём Новиков так часто на это обращает внимание, что немудрено задуматься о матросах, способных мыслить полезнее для флота, нежели обученные морскому искусству офицеры. Впрочем, на «Орле» будет единственный офицер, сочувствующий матросам и снабжающий их литературой, способной пробудить революционный настрой.
Плыть до Порт-Артура долго. За это время сам Порт-Артур падёт, эскадра вынужденно остановится на Мадагаскаре, пробыв у его берегов два месяца. В Новикове успеет проснуться писатель-натуралист, подмечающий особенности в движении солнца, сообщающий о диковинных фруктах, вплоть до вкусовых ощущений. Матросы и вовсе потеряют уважение к офицерам, открыто высказываясь о наболевшем прямо им в лицо.
Так бы закончились мытарства матросов, поскольку стало ясно — идти дальше в японские воды бессмысленно. Поддержку русские корабли в море не встретят, японский флот имеет значительное преимущество, но и оставаться на Мадагаскаре нельзя, ибо тогда придётся затопить всю эскадру, ведь на обратном пути углём их снабжать не станут. Сражения с японцами было не избежать, и двадцать пятого мая 1905 году в Цусимском проливе произошёл бой, описанный Новиковым во второй книге.
Автор: Константин Трунин