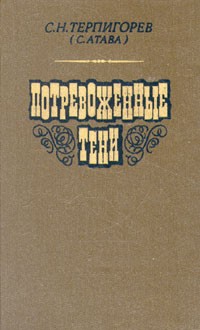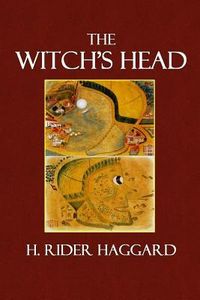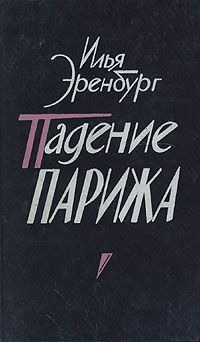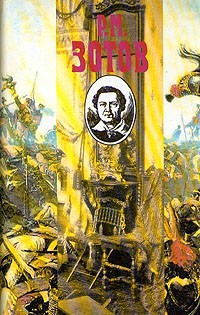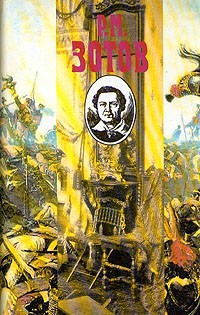
От Петра I до Петра III — хронометраж второй части «Военной истории». Уже не Русь, но Россия представала взорам европейских обывателей тех дней. Основное отличие России от Руси — истребление в русском человеке русскости и сходства в помыслах со славянами. Русским следовало принять на себя образ европейцев, сообразно этому мысля и действуя наперёд. Пётр I посчитал важным делом избавиться от стрельцов, не раз бунтовавших до начала его правления, доставивших неприятности и во время предпринятых им заграничных поездок. Он пожелал создать армию на европейский манер. Он же заложил в Воронеже верфь, планируя строить корабли ничем не хуже, нежели имелись у англичан. До 1697 года Пётр отвоевал обратно Азов, в дальнейшем задумав посетить Голландию, Англию, Австрию и Италию. Шёл ему тогда двадцать шестой год. До начала Северной войны правители Польши и Дании уже склоняли выступить против Швеции, тем более Пётр считал необходимым вернуть обратно контроль над Лифляндией.
Чтобы понимать главного противника Петра — Карла XII — нужно знать, шведскому правителю в 1700 году исполнилось восемнадцать лет. Был он пылок намерениями, но и воевал не так, чтобы активно выступая против России. Прежде войны на севере, Пётр заключил перемирие с турками на тридцать лет. Вся дальнейшая история России на века вперёд сложится из постоянной переброски войск между основными соперниками, которые будут обозначать свои намерения с севера, юга и запада соответственно. Так придётся поступать и Петру, когда шведские и турецкие правители будут обсуждать планы против России, периодически волнуя польскую шляхту. Польша предпочитала вести странную войну, выступая первоначально против Швеции, не спрашиваясь с союзниками, дабы допустить Карла внутрь страны, позволяя ему спокойно передвигаться и занимать те города, которые ему будут угодны. И сам Карл не вступится за Лифляндию, в том числе и Финляндию, чьи области распространялись на юг (вплоть до Ревеля).
Пётр в меру успешно вёл осады, чаще неудачные, ежели он не принимал в их осуществлении личного участия. С трудом была взята Нарва, с проблемами — Мариенбург, где он встретил Екатерину, будущую жену и его наследницу в качестве правителя России. Был взят Петром и Ниешанц, рядом с которым в 1703 году заложена крепость, впоследствии ставшая столицей. При этом Карл не проявлял заинтересованности, продолжая пребывать в Польше. Там обозначилась проблема — кому быть королём. Пётр ещё не умел навязывать шляхте мнения, как всегда будет в дальнейшем, поскольку судьбами поляков после Петра преимущественно будут распоряжаться правители России. По воле Карла тогда правителем Польши был избран Станислав Лещинский.
К 1707 году Карл надумал идти на Россию. Предстояло двигаться через Смоленск. В те годы проявил твёрдость натуры Мазепа, отвернувшийся от Петра, до того бывший его верным соратником. Тут же стоит сказать про особенность манеры передачи Зотовым смыслов. Рафаил устранил недоразумения неизменным выражением «в Украйну». Предстояло свершиться битве под Полтавой. Карл безуспешно осаждал город, потеряв половину войск. Пётр подошёл с войском, теперь превышавшим шведское вдвое. Зотов подробно описал ход сражения. До его начала, ещё при осаде, Карла ранило в ногу. Непосредственно в сражении Петру прострелило седло и шляпу. Победа была одержана. Далее Пётр занял Ригу и Ревель, по его настоянию на польский престол избран Август Сильный.
Карлу удалось убедить турецкого правителя Ахмета III выступить с двухсот пятидесяти тысячным войском. Пётр мог ему противопоставить лишь тридцать восемь тысяч. Ряд историков считает случившееся тогда окружение Петра подобием его позора, вместе с тем — триумфом Екатерины, будто бы ей удалось склонить Ахмета к миру с Россией. Затов такое рассуждение отвергает. Договориться удалось с помощью Шереметева, заинтересовавшего турок выгодными для них условиями мирного соглашения. Азов вновь пришлось отдать, кроме того Россия обязывалась срыть Таганрог.
Дальнейшее течение военной истории вялое. Более страдал Карл, вынужденный претерпеть унижение от Ахмета, а к 1718 году загадочно погибший при штурме норвежского Фридрисхгалля. Внутри Швеции покоя не было, пока в 1721 году не был заключён мир с Россией, а Пётр по праву заслужил титло императора. Теперь Зотов нашёл время поделиться любопытным фактом. Летопись Нестора Пётр нашёл не где-то, а в Кёнигсберге — шёл год 1717. Потомок отныне волен иначе посмотреть на древнюю историю.
Пётр добился главного — выхода к Балтийскому морю. Что дальше? Идти в Индию через Хиву. К тому он стремился, чему помешали проблемы со здоровьем, охарактеризованные Зотовым запорами урины. В 1723 году Дербент и Баку попросились в российское подданство. Однако, вскоре жители Баку решили иначе, вследствие чего пришлось применить силу. Турция с неодобрением взирала на планы России, опасаясь, что русские смогут подчинить часть Персии. В 1724 — Пётр настоял на коронации Екатерины. Вскоре он простудился и умер, не оставив завещания и не дав распоряжений, кого желает видеть наследником на российском престоле.
Екатерина начала править блестяще. Ею основана Академия Наук, отправлен в экспедицию Беринг. Через два года она умерла, перед смертью сообщив подробное завещание, указывая, кому и в каком случае занимать престол. Указывалось, императором должен стать двенадцатилетний Пётр — внук Петра I. При этом ему полагалось жениться на дочери Меншикова. История пошла иначе: Меншиков сослан в Сибирь, Пётр через три года умер от оспы. В этом случае престол полагался Елизавете Петровне — дочери Петра I. Тогдашние высшие силы России выступила за Анну — дочь Ивана, брата-соправителя Петра I.
Анна Иоанновна поддержала на польском престоле Августа Саксонца — сына Августа Сильного. Французы поддержали Лещинского, следствием чего стало выступление России против Польши, последовали битвы и осады городов. В 1735 году вынужденный поход на земли крымских и кубанских татар, проявивших агрессию. Русские воевали успешно, с минимальными потерями брали Перекоп и проходили вглубь Крыма, постоянно отступая назад, что Зотов объяснил сменой сезонов. Командовали армиями Миних и Ласси. Тогда же в Курляндии, по настоянию Анны, избрали герцогом Бирона. В 1740 — Анна умерла, оставив наследником Ивана, правнука брата-соправителя Петра I. В 1741 — Швеция объявила России войну. В том же году, в результате дворцового переворота трёхсот, императрицей провозглашена Елизавета Петровна. Все сторонники прежней власти, или ей пособлявшие, лишились постов и отправились в ссылку.
По коронации Елизавета сразу истребовала к себе Петра (будущего посмертно коронованного императора Петра III). Из старой гвардии позицию командующего сохранил лишь Ласси, он и продолжил оказывать шведам сопротивление. Ему удалось овладеть Финляндией. В Швеции снова пошатнулись позиции тамошнего короля. Шведы стали зазывать в короли Петра, но тот отказался, ожидая избрания императором Российским. То казалось вполне возможным, так как он, помимо того, что являлся братом сестры Елизаветы (дочери Петра I), приходился внучатым племянником Карлу XII. Елизавета тогда посчитала нужным заключить мир на условиях, что шведским королём будет голштинец Адольф Фридрих, он же родной дядя будущей императрицы Екатерины Великой. Через год прибыла в Россию и сама Екатерина. В 1757 году началась Семилетняя война. Россия успешно шла воевать Пруссию, на полях сражений проявился гений Апраксина. В 1758 — взят Кёнигсберг. В 1760 — Фридрих II без боя отдал Берлин. Тогда же на полях сражений нашёл воплощение гений Румянцева. Испытывая подобный успех, в 1761 году Елизавета умерла от падучей. Пётр тут же велел закончить войну, встал на сторону Пруссии, пошёл на Австрию и подумывал пойти на Данию. Через год Екатерина его свергнет, заняв престол по праву матери Павла.
Автор: Константин Трунин
» Read more